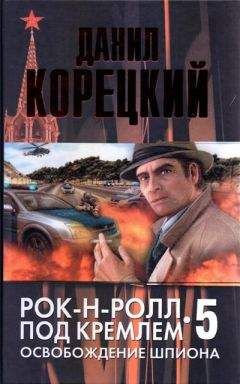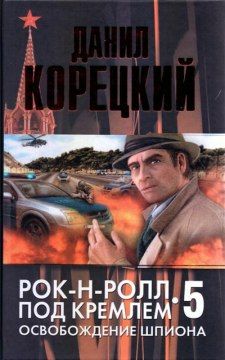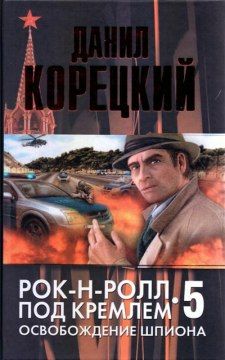Шкет, а за ним и Костыль принялись громко дышать, как на приеме у врача. Пахло сыростью, дымком, где-то на самой границе обоняния примостился запах таежной хвои. В основном же несло выгребной ямой — именно так, как и положено нести после свежего утреннего выноса. Но три сумеречные фигуры не замечали этого. Возможно, привыкли. А может, воздух и в самом деле стал чище. Хотя бы чисто арифметически — за счет того, что одной гнидой, и одной парашей, стало меньше.
* * *
Как и большинство слухов, этот появился недаром: из двух обитателей тринадцатой камеры действительно дышал только один. Но прав был Шкет: дышал американский шпион Мигунов, потому что именно он «прижмурил» сексуального маньяка Блинова, а не наоборот.
Теперь он лежал на бетонном полу в холодном карцере. Один. Дышит и тоже не может надышаться. Но не потому, что здесь пропитанная запахом хвои чистая атмосфера тайги. Радость доставляет сам факт, что он может дышать, что воздух проходит сквозь горло, а не застревает грубым комком в сломанной трахее...
Руки скованы наручниками, избитое тело болит. Прощальные автографы на долгую память о последней вечеринке. Отжигали там многие: и коридорные контролеры, и резервный наряд, и дежурный с помощником. Сам полковник Савичев прибежал к месту ЧП и сапогом приложился, отвел душу. Как знать, доведется ли свидеться вновь?.. Все-таки убийство на территории особорежимной ИК может быть чревато не только для убийцы, но и для начальства колонии. Ах, ах, какая жалость — всемогущего полковника могут отправить на пенсию, и что тогда останется от его возможности распоряжаться чужими жизнями?
Он лежит в холодном карцере. Еле живой. Больше суток без еды. Мигунов то плачет, то улыбается в пол разбитыми губами. Он надеется, что уже близок спасительный вертолет из приятных снов, и впереди уже забрезжил далекий свет свободы. Эта надежда вызывает улыбку. И он вспоминает, как душил сокамерника. От этого воспоминания он плачет. Беззвучные вопли под подушкой, прожигающие насквозь, до ладони. Колени, пальцы, грязные когти - цепляющиеся, лягающиеся, страшные, бессильные. Как паучьи лапки. Стоит надавить посильнее — слышится хруст...
Сначала подушкой, потом руками. Потому что — ты прав, Блинов! - видимость бывает обманчивой. Посиневшее лицо, оскаленный рот, закатившиеся глаза и так далее... А жилка-то бьется во впадинке между ключицами. Ай-яй-яй! Как тогда — красная перчатка из-под сугроба. Помнишь, сука? То-то же, специалист по удушениям!
Надпись на могильной плите: «Душить надобно с терпением. Блинов». Как тебя хоть звали-то, ублюдок, а? Бэ-бэ Блинов? Никогда уже не узнать, наверное. И - хорошо, черт возьми!
Хотелось смеяться и плакать, куда-то бежать и беспробудно спать одновременно, он разрывался на две половинки и был близок к истерике.
— Эй, сделайте мне укол!
— А ну, тихо там!! - раздался злой окрик коридорного. Это был новый сотрудник, он еще не обтерся, не притерпелся и искренне ненавидит злодеев-пожизненников.
— Разорался, скотина!
Открылся глазок в двери, грохнула по металлу дубинка.
— Какой тебе укол?
— Любой, успокаивающий...
— А ты что, разволновался? Щас, я тебя успокою...
Лязгнули засовы. Контролер вошел в карцер, встал
над ним, задумчиво почесал скулу - Мигунов понял это по скрипу щетины. Так и стоял сержант или прапор над бывшим полковником, распростертым под ногами в полосатой робе, наслаждался.
— Гражданин-начальник, к нам нельзя поодиночке заходить, - честно предупредил Мигунов. - Инструкция запрещает. Среди нас знаете, какие звери есть? Сожрут на раз-два...
— Так ты же в наручниках!
Судя по голосу, совсем молодой парень. А сколько презрения в тоне, сколько чванства... И что из него получится? Может, садист похуже Блинова...
— И-и-и... Что с того? «Молчание ягнят» видели?
— Какие еще ягнята?! Или у тебя крыша едет?
— И наручники только на два часа надевать можно, а я уже сутки...
— Да-а-а, непорядок, - протянул вертухай и перетянул литой резиновой дубинкой по спине. Точнехонько по почкам, как раскаленной проволокой проткнул. А потом громко зевнул. Дескать, скукотища тут с вами, скотами...
Преодолевая боль, Мигунов думает о приятном. «Меня здесь скоро не будет! Понял, ты, рожа! Заозерск, потом Якутск, потом - еще дальше, туда, где страшным словом Siberia путают непослушных детей. А ты, вертухай, ты останешься на Огненном острове, в этой самой Сиберии. Ты приговорен навечно, и дети твои тоже приговорены! И все в этой стране приговорены! А я — свободен!»
Ну, почти свободен. Если выгорит.
А если не выгорит?
— Будешь еще орать, скотина?
— Никак нет, гражданин начальник.
— A-а. Ну, смотри...
Ушел. Мигунов скручен болью, наручниками и совершенным накануне убийством. Все-таки с Дроздом и Катраном было по-другому. Проще. Потому что между ним и их смертью был ток или специальная отравленная игла. А вчера — только подушка и руки...
Вот честно, он не помнил, как все-таки решился на это. Что-то ведь было. A-а... Блинов перед сном вдруг объявил, что собирается подавать прошение на УДО. Якобы он все-таки успел переговорить с кем-то из правозащитников, и вот сегодня пришла весточка с воли: мол, пошуршим, перспектива имеется. С первого раза, конечно, не прокатит, но через год-два: сейчас ведь гуманизация... У него хоть какой-то шанс есть. Реальный. Он Родину не продавал. У Мигунова ничего нет. Его не выпустят отсюда никогда, даже в гробу. В «Архипелаге» этом и так все прекрасно понимают, но им важно привлечь к себе внимание, поднять шум, пропиариться. И на здоровье. Это Блинова не касается. Через год, два, ну, от силы пять лет он окажется на воле. Такова его цель в жизни. И знаешь, что первым делом он сделает? Найдет его жену. Хотя со старухами он никогда не связывался, они ему физически неприятны. Но на этот раз как-нибудь потерпит, пересилит себя. А потом найдет его ребенка — без разницы, мужчина он или женщина. И...
В общем, и так далее и тому подобное... Мигунов помнил: ровно половина четвертого ночи. Храп Блинова. Он очнулся, хотя и до этого не спал, лежал в полузабытьи. Поднялся, как от резкого толчка. Побрел к его кровати, прихватив носок и подушку. Это не подушка даже - плоский, набитый ветошью блин.., Вперед себя как бы шел, не давал времени опомниться. Вогнал заскорузлый грязный носок в приоткрытый мокрый рот, намертво зажал пасть растопыренной пятерней, закрыл харю подушкой и - навалился всем весом! Он прет из-под тебя наружу, как фонтан из прорвавшей канализации, выгибается, становится на мостик, скрюченные пальцы мелькают у самого лица, ты уворачиваешься, тоже припадаешь к подушке, чтобы глаза уберечь… Вся ненависть твоя с тобой. Вот здесь. Это уже не родные твои восемьдесят пять кило (или сколько их там осталось?), это — тонна чистой ненависти.
Бр-р. Отвратительно. И страшно.
Первое мгновение, когда открываешь лицо задушенного тобой человека... Страх, да. И дикое любопытство. Что там, под подушкой? Удалось ли? Под подушкой Блинов улыбался. Скалился. Как и в ту ночь. То ли умер, то ли прикалывается, непонятно. Он был не человек. Точно. Без всяких преувеличений. Какой-то неизвестный науке биологический вид в облике сантехника-убийцы. Мимикрия, маскировка. И жилка бьется, стучит...
Как он его добивал, Мигунов тоже помнит плохо. Под большими пальцами рук что-то еще сопротивлялось, ускользало, извивалось червяком; Потом — провалилось. Он поранился обо что-то, об острую кость. Крики за дверью. Свет. Удар. Он корчится на полу, один контролер наступил ему на грудь, второй склонился над Блиновым. Что он там увидел, неизвестно, но тут же блеванул на пол, едва наклониться успел. Топот ног, встревоженные голоса, ругань, злобный рокот Савичева.
— Убил все-таки!
— Вот гады! И тут загрызают друг друга!
Дубинки падают на плечи, спину, сапоги мелькают
перед лицом, топчутся по всему телу. А он почти и не чувствует, в голове только одна мысль: вот и все, он сделал это...
Лежа на полу в холодном карцере, Мигунов открыл глаза.
— Товарищ полковник, за время дежурства происшествий не произошло! — в голосе контролера уже нет царственной чванливости - только показное усердие.
—Давай, отпирай! — а это рокочет Савичев.
Дверь карцера снова лязгнула и открылась — три пары ног стали вокруг его лица.
— Поднимите осужденного! - а это голос новый, незнакомый.
Сильные руки вцепляются в одежду и рывком ставят его на ноги.
Незнакомец — в штатском костюме, рыжий, полноватый, лицо в веснушках. Держится очень солидно, по- начальственному.
— Здравствуйте. Моя фамилия Воронов, старший следователь Следственного Комитета по Заозерскому району.
Мигунов ушам своим не поверил. Впервые за восемь лет, если не считать правозащитников — Любчинского сотоварищи, с ним кто-то поздоровался. Хотя бы формально пожелал ему здоровья, а не скорейшей гибели в мучительных конвульсиях.