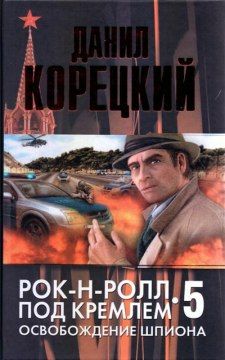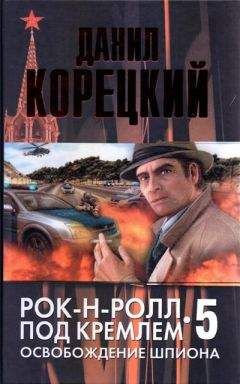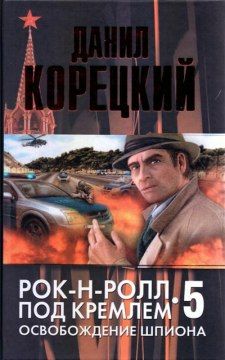— Что произошло позапрошлой ночью между вами и Блиновым Игорем Васильевичем?
Эту скотину Игорем звали, все-таки было у него человеческое имя, вот как. И-Вэ Блинов.
— Он на меня напал, — сказал Мигунов.
Стоящий у двери Савичев нахмурился.
— Что-о?!! Я тебе, блядь, покажу напал! Говори, как есть!
На самом деле Мигунов не знал, что ему говорить. На этот счет никаких инструкций не было. Предположим, он так и сделает: скажет правду, во всем сознается. А вдруг дело закроют прямо здесь, на месте? Без всякого Заозерска? Что-то вроде судебной «тройки», как в сталинские времена?
— Он на меня напал, — повторил Мигунов, глядя следователю в глаза с бесцветными ресницами. — А до этого угрожал. Сказал, что у него договоренность с начальством колонии.
У Савичева отвалилась челюсть.
— Что если он меня убьет, это обставят как несчастный случай. А ему, Блинову, смягчат режим и разрешат прогулки в неурочное…
— Да врет он! — перебил начальник колонии, стараясь опять не сорваться в крик, даже голос задрожал. Полез в карман за носовым платком. — Ему сейчас хоть в жопу вперед ногами, все едино, вот он и поливает грязью… Ох, смотри, Мигунов, допрыгаешься ты у меня…
Воронов с невозмутимой привычностью записывал что-то в протокол. Он левша, кисть будто тянется за ручкой, как привязанная.
— И все-таки — что произошло между вами? Говорите по сути дела. Обстоятельства мы выясним потом.
— Хорошо, — сказал Мигунов. — В три часа тридцать минут я проснулся от того, что почувствовал чьи-то пальцы на своей шее. Это был Блинов. Он душил меня. Я оттолкнул его. Некоторое время мы боролись, потом он оказался на своей кровати. Он сказал, что все равно убьет меня. Говорил всякие гадости про меня и про моих родственников. Сказал, что, когда выйдет на волю, первым делом убьет мою жену и моего сына. Тогда я схватил подушку и накрыл его лицо, чтобы не слышать этого. Ну, и, наверное, задушил его в этот момент… Не имея, конечно, умысла на убийство…
— Какой подушкой вы его накрыли? — спросил следователь. — Чья была подушка?
— Моя.
— Где она лежала?
— На кровати, наверное.
— И вы смогли дотянуться до нее, продолжая удерживать Блинова на его кровати?
Мигунов подумал. В самом деле…
— Я плохо помню. Возможно, подушка упала во время нашей борьбы и я подобрал ее с пола.
— Поднимите подбородок. Повыше.
Изучает следы на шее. Кажется, Блинов в какой-то момент ухватил его за горло, когда сопротивлялся. Мигунов надеялся, там что-то осталось. Ну, а даже если не осталось… Плевать.
Он случайно встретился взглядом с Савичевым. Глаза начальника были темны, он с нетерпением ждал окончания допроса, когда они смогут остаться наедине. Черт, надо было, видно, все-таки подождать до Заозерска со всякими громкими заявлениями.
— Я требую медицинского освидетельствования на предмет нанесения побоев, — проговорил Мигунов, сам удивляясь своему нахальству. — Меня избили во время задержания. Хотя я не оказывал сопротивления.
— Вас освидетельствует врач в СИЗО, — сказал следователь, не отрываясь от бумаг.
— Тогда занесите мое требование в протокол.
Воронов поднял глаза.
— Зачем? Это обязательная процедура при поступлении в изолятор.
— Я думаю, меня могут избить и даже покалечить еще до поступления…
— Никто вас калечить не собирается, Мигунов. Успокойтесь.
Следователь многозначительно взглянул на Савичева. Тот, красный как рак, кивнул:
— Что за глупости? Кто тебя будет калечить?
— Держат же меня сутки в наручниках! — пошел ва-банк заключенный. Хуже все равно не будет…
— Как сутки?! — возмутился Воронов. — Это уже пытки! Немедленно снимите!
Потом Мигунова отвели в медсанчасть, фельдшер Ивашкин в присутствии Воронова осмотрел его, заполнил акт освидетельствования, куда занес все синяки, ссадины, царапины и шрамы. Ближе к вечеру в ворота колонии въехал автозак с пятью дюжими охранниками. Мигунова погрузили в стылое железное нутро, там снова заковали в наручники. Эти были полегче, да и заковали теперь руки не за спиной, а впереди — тоже облегчение… Во время процедуры он, вытянув шею и изогнувшись, все смотрел сквозь открытую дверь назад. Сбывался давний сон: он покидал ненавистное место. Вот только не было полета, не было бескрайней шири вокруг, даже неба не увидеть. Стена общего барака с окном, край крыши. Всё. Там, в бараке, за перечеркнутым решеткой окном — чье-то лицо, смутное, неразличимое. Может, Дули, может другого «петуха», а может, и правильного арестанта. Минуту, наверное, Мигунов смотрел на это лицо, упивался им. Так чудом выживший смотрит на покойника.
— Не вертись, каин! — рыкнул старший конвоя, запихивая его в крохотный «карман» и со скрежетом запирая замок. — Может, тебе башку тоже в наручники забить?
Автозак тронулся с места и после ряда формальностей и задержек выехал за периметр особорежимной зоны и запрыгал по кочкам лесной просеки. Но Мигунов был рад. Это вертолет из его снов вез пожизненно осужденного навстречу свободе.
* * *
Заозерск. Следственный изолятор
Заозерский СИЗО, как и все пенитенциарные заведения России, страдал хроническим перенаселением. Но для «пожизненника» Мигунова, агента ЦРУ и шпиона, полностью освободили «двойку», в которой до этого обитали пятеро арестантов. Наверное, чтобы государственный преступник не испортил какого-нибудь разбойника, бандита или убийцу. Мигунов был только «за».
В камере было тепло, в его распоряжении имелись две настоящие «шконки» — не деревянные лежанки или нары, а именно кровати, с полосатыми толстыми, по меркам ИК-13, матрацами. Еда, кстати, тоже была получше: гороховый суп и вермишель по-флотски казались шедеврами кулинарного искусства по сравнению с какой-нибудь белесой бурдой из картофельной шелухи, в которой плавали черные тараканы. На третий день плутоватого вида вертухай просунул Мигунову в «кормушку» еще горячего цыпленка-гриль. С перцем и чесноком, с румяной корочкой. При цыпленке записка: «Якутские „Неспящие“ с тобой! Держись, Мигунов! Мы тоже не спим!» Так вкусно он никогда не ел! А если и ел, то уже успел это начисто забыть. А потом заснул: без сновидений и тревог, как младенец, как убитый! Он уже успел забыть про такой сон!
А потом посыпались передачи — от «Международной амнистии», «Линии Защиты», от якутского отделения «Архипелага», от Комитета против пыток, от каких-то совершенно незнакомых Мигунову людей… Теплая одежда, белье, футболки с призывами «Не спи, Россия!» (подумать только!), сало, чай, кофе, шоколад, сгущенное молоко, сухая колбаса! Однажды передали даже красную икру в аккуратной баночке! Хотя он точно знал, что и шоколад, и кофе, и икра к передаче запрещены.
Он запоем читал газеты, журналы и книги: в СИЗО имелась библиотека на тысячу томов, с подшивками центральных и местных газет. Ходил он теперь прямо — «лягушачья поза» осталась в прошлом, наручники не надевали, по два часа проводил на прогулке, почти каждый день приходили адвокат или следователь, или оба.
После 8 лет на Огненном острове жизнь стала комфортной, полной и насыщенной. Он чувствовал себя, как Робинзон, который с необитаемого острова перенесся в шумный красивый город, где каждый день ходит в рестораны, театры и кино. Или как заключенный, переведенный из тюрьмы в хороший ведомственный санаторий. Во всяком случае, он стал чувствовать себя гораздо лучше и даже заметно прибавил в весе.
Следствие его не очень волновало: при пожизненном сроке новое расследование было обычной формальностью и не могло ухудшить его положения. На допросах он продолжал отрицать свою вину, развивал линию «политического заказа» по первому делу и самообороны — по второму.
Оплаченный правозащитниками адвокат из местной Коллегии относился к бывшему полковнику с симпатией и приходил не только по необходимости, что добавляло еще одну приятную нотку в общий праздничный фон. Оказалось, что этот сорокапятилетний мужик с вислым красноватым носом тоже фанатеет от Элвиса, Джонни Кэша и Мерла Тревиса. Уже на вторую встречу адвокат, по просьбе Мигунова, приволок плеер с записью концертов Элвиса в Гонолулу и Лас-Вегасе, а также парочку ранних синглов. И последующие два часа они мирно беседовали о всякой всячине под «Шестнадцать тонн» и другие рок-мелодии.
Охранник стоял за звуконепроницаемой дверью со стеклянным окошком, он мог их только видеть, но ни черта не слышал и не знал, что вместо скучного обсуждения линии защиты там гремит настоящий пир духа, что подозреваемый Мигунов, озабоченно склонившийся над бумагами за обшарпанным столом, — это только видимость, голограмма. На самом деле он за тысячи километров и сорок лет отсюда: теплым августовским вечером 1969-го, одетый в белый костюм из фланели и шляпу «стетсон» с золотой пряжкой, он отжигает за столиком в самой роскошной гостинице Лас-Вегаса «Интернейшнл», где в воздухе висит золотая пыль, виски и красное калифорнийское льются рекой, визжат умопомрачительные красотки, а на сцене вихляет бедрами кумир его молодости…