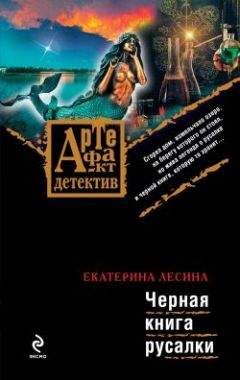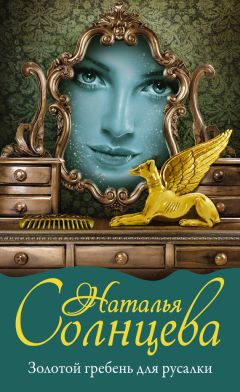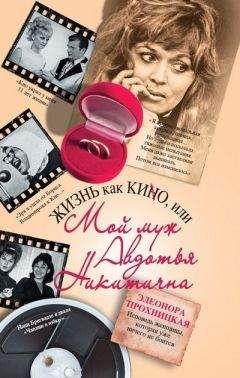Ознакомительная версия.
– Костенька, присмотри за бабушкой... – И прикосновение маминых губ к щеке. – Будь хорошим мальчиком.
Он был, он старался, он преодолевал себя, каждый раз, когда выпадало подходить к двери: темное дерево, белая фанера вместо стекла, мягкое одеяло, набитое с той, обратной стороны. И замок. И ключ, что нужно вставить в личинку замка и повернуть. Тогда раздастся щелчок, легкий скрип петель – сколько их ни смазывай, все равно скрипят – и в коридор вырвется запах.
– Так в чем же дело? – сердито поинтересовался следователь, выпячивая нижнюю губу вперед. И бабка так делала, когда, сидя в углу комнаты, смотрела на Костеньку. Потом она вытягивала вперед руку и начинала мерзко хихикать, повторяя:
– Толстый, толстый, толстый...
Или еще что-нибудь похуже.
Мальчик Костенька ненавидел мерзкую старуху, юноша Константин искренне плакал на похоронах, но не от горя – от счастья и осознания собственной свободы, а Константин Львович однажды прочитал, что шизофрения передается по наследству.
Эта случайная статья разом пробудила все, казалось бы, изжитые страхи, вытянула, вытряхнула и выпустила на волю с мучительным осознанием того, что где-то в Костеньке, в каждой клеточке его тела живет та самая, отвратительная, безумная бабка.
– Так и будете молчать? Что ж вы, Константин Львович? Человек умер. Больше скажу, это вы ее убили!
Неправда! Не он! Она сама убила себя. Разумность безумия, свобода, которую запертая в плоти душа даровала себе же. И это правильно, это избавляет от клетки комнат или палат, от брезгливости окружающих, от равнодушия врачей и бесцеремонности санитаров. Смерть – это спасение.
Как бы там ни было, Константин Львович не убивал Аэлиту.
– Вы привели меня к ней, потому как знали, точнее не знали, нахожусь ли я в курсе существования гражданской жены. И на всякий случай решили прикрыться подобным образом. Думаю, вы посчитали, что я приму Аэлиту за ненормальную.
А разве она была нормальна? Одержима. Беспокойна. Заражена. И при этом не желала признавать, не желала бороться, сосуществовала со своим безумием и была счастлива. Она забрала себе Женьку, разумного, рационального, не верящего ни в бога, ни в черта, ни в науку Женьку, породив в нем болезненное желание добраться до треклятой Черной книги.
И Святцев погиб. Из-за нее.
– Знаете, ваше молчание, Константин Львович, очень выразительно. Кстати, это вы мне вчера звонили. Зачем? Пытались запутать? Привязать к убийству Святцева? А потом притворились спящим. Неразумно, однако. К тому же вас вчера видели. Да, те самые подростки, которые просили закурить. Они живут в соседнем доме. Они подробно вас описали и...
– Я не убивал ее. – В груди нарастала тяжесть, но Константин Львович привычно отмахнулся от нее. – Не убивал.
Он и вправду не убивал. Он пришел поговорить, наедине и всерьез. Попытаться спасти еще одну заблудшую душу, и другую, не пойманную пока в сети обмана.
– Она сама... все сделала сама... она любила Женьку.
– И вы сказали, что раз такая любовь, то нужно что? Пойти следом? Подвиг Джульетты?
– Нет. Не подвиг. Какой подвиг, когда... она хотела нового найти, понимаете? Брюс, Черная книга, озеро это. Святцев ведь никогда в чертовщину не верил, он циничным был и разумным, а тут вдруг ударился в ловлю русалок. Из-за нее все, из-за Аэлиты! Она умела... убеждать. Заражать! Вы же видели? Вы и сами поверили, что у нее способности?
– Нет.
Да, поверил он, поверил, и теперь этой своей веры застыдился, потому как тоже считает себя разумным, рациональным и несклонным к суевериям.
– Я не хотел, чтобы она нашла еще кого-то, чтобы подсадила на эту сказку. Черная книга... не может быть там никакой Черной книги! И Мэчган не был учеником Брюса! Обыкновенный мошенник, выдавал желаемое за действительное. Люди рады обманываться, рады верить в эликсиры, привороты, в вечную жизнь, вечную любовь... – Константин Львович схватился за сердце, которое вдруг остановилось. Он совершенно четко ощутил, как оно замерло, беспомощно захлебнувшись кровью. – Я сказал ей... про любовь... если так любит, то зачем ищет кого-то? Пусть по следу... по его следу... я не убивал. Я просто помог ей... чтобы красиво... она хотела красиво...
А сердце все стоит. И перед глазами муть какая-то. Пыль поднимается со стола, повисает в воздухе золотистым туманом, заворачивается спиралью.
Или нет, уже юлой. Вертится-крутится, звенит волчок, перепрыгивая с половицы на половицу, мелькают разноцветные полосы, завораживая.
– Костенька, – прорезается далекий голос матери. – Будь хорошим мальчиком.
Не умирай.
– Я ушла, а Нисья осталась, – Лизка отвечала, глядя прямо в глаза, и ни у кого и тени сомнения не возникло в том, что правду говорит. – Она сказала, что... что...
Лизавета покраснела и, потупившись, тихо выдавила:
– Что ей встречу назначили.
– Кто? – Никита в отличие от дочери был куда как неспокоен. Нет, пожалуй, волновала его не смерть девушки, страшная, всколыхнувшая не только обитателей дома, но и все окрестные деревни, сколько невозможность продолжить работу.
Запертая дверь, замок, постаревший, подернутый патиной, но по-прежнему надежно защищающий лабораторию, неизвестность. Любопытство. Страх.
Маланья, стоявшая за Лизкиной спиной, тряслась и покрывалась крупным потом, который стекал с лица на шею, струился по спине и груди. И страшно ей было думать о том, что еще вчера она на Нисью пеняла за леность и неудалость, и страшно было, что еще вчера Нисья, вечно сонная, тихая, толстая Анисья, была жива. А сегодня уже нет.
Убили!
– Уби-и-и-ли! – верещала Зузанна, прилетевшая с озера. – Убили! Бабоньки, убили!
И если поначалу вопль этот лишь самую малость всколыхнул дремоту двора, то чуть после, когда отряженные к берегу мужики принесли окровавленное, разодранное едва ль не на клочья тело, он усилился, перерос в вой.
Тогда-то и вспомнили, что в последний раз Нисью видели, когда та на озеро с Лизкой собиралась. А после Лизка вернулась одна, сказав, что Нисья ...
– Папа, она... она не говорила, кто. Он ей бусы подарил. И платок еще. Красивый платок.
Никита, развернувшись, вышел из комнаты, а Елизавета разревелась, но, пожалуй, впервые у Маланьи не возникло желания обнять, утешить, успокоить.
– Антихрист явится! – вещал над дочкиным телом Иван, упавши на колени, черпал сухой песок, сыпал на грудь, точно пытаясь прикрыть наготу его. – Антихрист явился! Зрите, зрите же деянья его!
Антихристом в усадьбе называли Мэчгана.
А Лизавета – дочь его... и она последняя Нисью видела... и еще вороны во дворе кричали, а Полушка, псица старая, которую удавить думали, в этом годе шестерых щенят принесла, и все, как один, черные.
Пожалуй, будь эта смерть последней, с ней бы смирились. Может быть, и вовсе позабыли. А может, превратили бы в историю необыкновенную, мрачную, каковые рассказывают приезжим, пугая и завораживая, постепенно сменяя одни подробности, реальные, иными, вымышленными.
Но не прошло и девяти дней, как прямо на пороге дома нашли Зузанну.
Простоволосая, растрепанная, в одном исподнем, она лежала на заднем дворе, уставившись в небо пустыми глазами, горло ее раздирала черная полоса, а мясные мухи радостно клубились по-над телом.
– Зрите! – снова вопил Иван, крестя усопшую, и целовал в холодный лоб, и крест, из веточек свитый, клал на приоткрытый рот, то ли благословляя, то ли затыкая. – Вот! Вот слепота ваша! Вот глухота ваша! Вот погибель ваша!
И снова вспомнили, что давече Зузанна вздумала пенять хозяйке на неаккуратность, а та, обычно молчаливая да тихая, возьми и ответь. Что именно сказала Лизавета, так никто и не вспомнил, да и зачем – придумали.
Мэчган же, распорядившись о похоронах, снова заперся. До людей ему не было дела, он искал путь...
А еще через неделю погиб Яська-пастушонок, парень молодой, крепкий, но слабый на разум, оттого и поставленный к делу простому. Следом заговорили о том, что в Погарье три младенчика беспричинно померло, а еще одного прям на глазах матери волк уволок. Что в Стремянах теля родилось о шести ногах. Что рядом, в Калючах, бортника медведь задавил и тоже неспроста, что...
Смертей было много, разные, они меж тем слухами летели к усадьбе, обрастая по пути приметами и подробностями, продолжая страшный счет, начатый здесь же, с Анисьиной смерти.
– На Него уповайте! Ему молитесь! Его просите о милости, о просветлении! – уже почти не умолкая, говорил Иван. Сорванный голос, то сип, то скрип, то рык грозный, порождающий желанье спрятаться, упасть ниц да бить поклоны.
И падали, и били, и тянули руки к иконам.
И замолкали, отползали в сторону, стоило завидеть Лизавету. Не было в ней больше ангельской красоты, не было в ней кротости и мира – Антихристом родилась, обманула, пришла на землю эту, кровь проливая, беду рассыпая.
Ознакомительная версия.