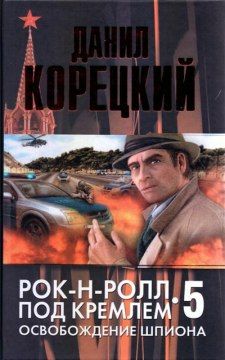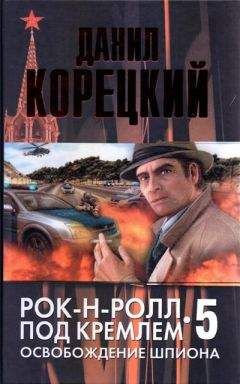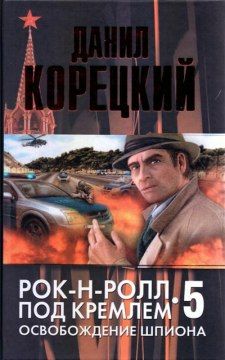Он встал с постели и вышел в коридор. В прихожей стояла Марина, держала в руке остроносую туфлю с красной подошвой, на высоченной прозрачной «шпильке».
— О… Привет, — сказала она каким-то ненатуральным голосом.
— Привет. По-моему, ты сейчас в Тюмени, — сказал Евсеев, жмурясь от яркого света. — Танцуешь в черных колготках с этими, как их… С перьями на голове. Или я сплю?
— Ты не спишь, дорогой. А я не в Тюмени. И не танцую в черных колготках. — Она отшвырнула в сторону туфлю для стриптиза, заглянула под трюмо.
— Мои милые домашние тапочки, мои хорошие, цып-цып… Как я по вас соскучилась, если б вы знали!
У Юры создалось впечатление, что она избегает смотреть ему в глаза.
— А почему ты не танцуешь?
— Потому что сбежала, — тон был тоже неестественный: вроде искусственно-бодрый, а на самом деле взвинченно-возбужденный.
— Послала всех подальше, села на самолет и улетела к моим родным домашним тапочкам…
— А зачем же ты от них уезжала?
Она наклонилась, обула красные панталетки с открытыми пальцами, выпрямилась, подошла к Евсееву, обняла и уткнулась в плечо, так и не показав глаз.
— И к родному мужу. Вот так.
Странная история. В ней не было никакой логики.
— Зачем же было лететь за тридевять земель, чтобы потом лететь обратно?
Евсеев посмотрел на нее. Лицо осунулось, под глазами круги.
— Надо же было самой убедиться, что Тюмень — столица деревень…
— Ты же говорила, это столица нефтяных королей…
— Туда в войну перевезли труп Ленина из мавзолея, он хранился в сельхозакадемии. Потому что он — гриб. А Тюмень — самое тоскливое место во всей Сибири. Даже во всей вселенной.
— Не надо про Ленина и про грибы. Не заговаривай мне зубы. Что там случилось?
— Нефтяные короли достали. Хотя и Пупырь не лучше, если честно… Слушай, у тебя поесть ничего не будет? Весь день моталась, некогда было, а в самолете вырубилась, едва села в кресло…
— Твои любимые рыбные палочки, — сказал Евсеев.
Она кивнула.
— Хоть что угодно! А коньячку можно?
Евсеев надел тренировочный костюм, посмотрел на часы: половина шестого. Пошел умываться. Когда вышел из ванной, на кухне уже играло радио, скворчало масло в сковороде и клубились густые ароматы отдела полуфабрикатов. Он захватил из бара бутылку «Юбилейного» и пару бокалов.
— Что случилось, Марина?
— Да ничего особенного… Собралась всякая толстопузая шелупень, с перстнями на каждом пальце да наглыми рожами. Пупырь с ними заигрывает: тю-тю, трали-вали… Вкусно, Юр. Еще хочу…
Она выложила со сковороды то, что осталось, подняла бокал с коньяком.
— В общем, дорогой мой, несравненный мой муж! — объявила она торжественно. — Хочу выпить за тебя. Потому что… Во-первых, потому что мы расстались как-то нехорошо. Многое осталось недосказанным. Во-вторых, потому что в общем и целом ты оказался прав: надо кончать с этими подтанцовками. Я признаю свое поражение, выбрасываю белый флаг и готова хоть завтра идти в Академию хореографии, нести доброе и, как там говорится… вечное. Уходить в восемь, приходить в пять. Танцевать для мужа голой под сенью семейной люстры…
— Не просто танцевать, — сказал Евсеев.
— Хорошо. Буду раздеваться и делать все остальное.
— Не только. Ты родишь ему ребенка.
Она задумчиво посмотрела в бокал, будто из янтарной глубины ей должны были подсказать ответ.
— И рожу ему ребенка, — нараспев повторила она. — Мальчика. Четыре кило пятьсот. И все у нас будет хорошо.
Она едва пригубила коньяк, отставила бокал в сторону. Евсеев смотрел на нее. Ему казалось, она вот-вот расплачется.
— Что произошло, Марина?
— Ничего. Почти ничего. — Она попыталась улыбнуться. — Устала просто… как лошадь. С Пупырем разругалась… Ты не будешь против, милый, если я станцую тебе в другой раз? А пока что просто приму душ и завалюсь спать?
— Я буду просто вне себя, — сказал Евсеев, изображая полное спокойствие. На самом деле внутри у него все кипело. — Мебель порублю в щепки.
— Вот и прекрасно. Мне нравятся темпераментные мужчины.
— Там хватало таких, да? — не удержался он.
— Там не хватало тебя, Юра.
«Опять уклонилась от прямого ответа. Но из того, что сказала, — ясно: да, там хватало темпераментных мужчин, но мужа не хватало, что заставляло верную жену страдать и нестись ночью через всю страну…»
Марина встала.
— Пойду выкупаюсь. Ты знаешь, что после войны тюменских уличных котов ловили и отправляли спецрейсом в Ленинград? Спасать Эрмитаж от крыс. Я всю дорогу думала над этим и не могла понять, почему именно тюменские коты им понадобились, что в них такого особенного. Есть ведь гораздо ближе города… Думала, что это типа как рижский ОМОН, головорезы такие…
«Хватит пиздеть!» — хотел крикнуть Евсеев, но сдержался и спокойно спросил:
— Откуда ты знаешь про рижский ОМОН?
— Мы же жили в Риге с родителями. Ты забыл? Правда, я тогда была маленькой…
— И к чему ты рассказываешь мне про котов? Или больше не про что?
— Не знаю. Наверное, по животным соскучилась. Во, слушай. Привези мне Брута, а? Сегодня. Я так по нему соскучилась, по черту лохматому. Вот проснусь, а Брут уже здесь — здорово, правда?
Последние слова она прокричала уже из ванной, под шум воды. Евсеев посмотрел на бокалы с коньяком — оба остались почти нетронуты. Он встал, пошел в прихожую, взял ее сумочку, открыл и вывалил содержимое на пол. Среди обычной женской ерунды, которая имеется в любой сумочке, на паркет упали две пачки тысячных купюр, перехваченных аптечной резинкой. Все стало ясно! Другие аптечные резинки она выбросила, а деньги — вот они… Это и есть уликовый материал, недаром Мигунов перед попыткой ухода сжег несколько миллионов, да и Толмачев[2] сжигал доказательства измены, только резинки почему-то оставил, по ним и сосчитали уничтоженную сумму.
Держа пачки в руках, он пошел в ванную, постучал в дверь и тут же понял, как это глупо: надо было выбить с разбегу защелку!
— Открыто.
Она стояла под душем, вода покрывала тонким слоем маленькие груди, огибала пупок, скатывалась на выбритый лобок и стройные ноги, гладкая кожа сверкала… Левая рука прикрыла правое предплечье, в широко раскрытых глазах плескалась растерянность.
— Это не мои деньги…
Юра подошел вплотную, хлестко ударил по лицу сначала одной пачкой, потом другой. Одной — другой. Одной — другой… Пачки растрепались, купюры планировали в ванну, намокнув, забивали слив…
Марина закрыла лицо ладонями. На правом предплечье синели овальные пятна: следы от сдавливания пальцами — классика судебной медицины.
— Это деньги труппы, Пупырь передал в кассу!
— И это тоже Пупырь?! — он показал на синяки. — Или они тоже не твои?
Она заплакала и опустилась в ванну.
— Кому ты заговаривала зубы?! Ты забыла, что я не Пупырь?! Выкладывай все, иначе хуже будет!
Юра не представлял, что может быть хуже. Сердце бешено колотилось и грозило проломить грудную клетку. Хуже всего мог быть только инфаркт. Он знал такие случаи.
Марина сидела среди мокрых денежных купюр, обхватив руками колени, и, всхлипывая, смотрела куда-то вниз.
— Говори! И в глаза смотри, в глаза!
Она не подняла голову и ответила не сразу.
— Они все шлюхи, вышедшие из стриптиза, — произнесла она наконец. — Он специально набирал именно таких.
— И что? Он заставлял вас…
— Нет. Никто никого не заставлял. Просто все хотели заработать бабок. Все были в курсе. Даже областная администрация… В смысле, мужики из администрации. Это так, полуофициально. Вечерний концерт в филармонии, а потом до утра — шансон с голыми задницами на столах, в дачах и саунах…
— Я же с самого начала говорил тебе, что так и будет!
— Я не знала, что задумал Пупырь, когда поняла, уже было поздно… Но я ни с кем не спала… Вот синяки, это меня тянул один… Но я вырвалась…
— А деньги откуда?! Дура! Тупица! Не говори мне, что это в кассу, а то я не знаю, что с тобой сделаю!
Марина вздохнула, умылась, выключила воду.
— Да, это не в кассу, — мертвым голосом сказала она. — Но пойми, я могла доработать до конца, положить деньги в банк, и ты бы ничего не узнал! Там должна была набежать большая сумма. Но я почувствовала, что не могу, это все не мое! И с этим покончено…
— Неужели? Большая радость!
Она шмыгнула носом и виновато посмотрела на него.
— В конце концов, у меня есть муж. Я поняла, что он самый лучший. Ты ведь меня не бросишь?
Некоторое время Евсеев стоял молча, в тяжелом размышлении. Потом стал стаскивать тренировочный костюм.
— Посмотрим на твое поведение, — буркнул он. — Давай, становись!
* * *
Брут мел хвостом по паркету и пускал радостные слюни, что было на него совсем не похоже. Значит, знает, что за ним пришли… На обеих передних лапах у него красовались повязки из эластичного бинта.