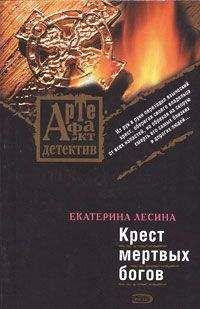Ознакомительная версия.
– Это грех.
– Это способ проверить, нужен ли ты Богу. Или боишься? – Озерцов не собирался отступать, я же не вмешивался. Непостижимым образом это несуразное и даже в некоторой мере оскорбительное по сути своей предложение показалось мне логичным.
– Если все в руках Его, если ты нужен, то Он не позволит тебе умереть… если милосерден, как утверждают, то простит грех. Так с чего бы не попробовать?
Отец Сергий молчал. А небо вдруг потемнело, набрякло влагой, которая, просачиваясь сквозь мокрую вату облаков, срывалась вниз мелкими частыми каплями октябрьского дождя. Огонь шипел, раздраженно и обиженно, огонь отползал, норовил спрятаться под поленьями да зарыться в толстую серую шубу углей.
– Скорее надо бы. Неохота тут мокнуть, – Никита поежился и, снова крутанув барабан, приставил револьвер к виску. – Сергей Аполлоныч, если что… спасибо тебе.
Щелчок. Нервная Никитина улыбка да ледяные пальцы, которые крепко вцепились в рукоять револьвера. Ну вот, моя очередь, привычно все, ни волнения, ни страха, только капли дождя холодом касаются лица, очищают.
Осечка.
Опять. И нет ни удивления, ни радости. Протягиваю револьвер отцу Сергию.
– Вы безумны, – он принимает оружие. – Оба безумны. Я не стану делать этого!
– Станешь, – отвечает Озерцов. – Пусть все по справедливости… по решению Божию… по судьбе. – Теперь в руках Никиты «наган», его собственный, дуло смотрит аккурат в лоб отцу Сергию, а выражение лица таково, что не остается сомнений – выстрелит. Всенепременно выстрелит.
– Давай, считаю до трех… либо сам, либо я. Только тут не револьвер, один выстрел – одна пуля. И не промахнусь. – Никита скалится улыбкой, слизывает с губ дождевую воду. – Раз…
– Нельзя так… не по-людски, – отец Сергий приставил револьвер к виску.
– Два…
– Грех это…
– Три…
Выстрел грянул, заглушив и шелест дождя, и шипение почти залитого водою костра, и прочие мелкие незначительные звуки.
– Вот Господь и решил, – Озерцов подошел к телу священника, наклонился, забрал оружие и, понюхав, скривился. – Все по чести было, Сергей Аполлоныч, одна пуля из семи… на, забери и прости, что без спросу…
Револьвер вонял сгоревшим порохом.
– Похоронить надо будет, а то нехорошо как-то, – Никита, присев на корточки, закрыл мертвецу глаза и, чуть подумав, прикрыл длинными волосами дыру в виске. – А я думал, что мой черед… не угадал. Пусть с миром покоится. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.
– Аминь, – я вяло удивился, что Никите известны слова молитвы. Револьвер непривычной уже тяжестью оттягивал карман, а усиливающийся с каждою минутой дождь смывал остатки эмоций.
Было ли мне жаль отца Сергия? Пожалуй, что нет.
Кажется, я потерял умение испытывать жалость. Кажется, я скоро стану таким, как Никита… безразличным.
Я ошибался. Я стал не таким. Я стал хуже.
Мне пришлось рассказать, утром, точнее, ближе к полудню – Данила спал долго, а разбудить я не решалась, тянула время, раскладывая разбросанные вещи. Неумело получалось, некрасиво, поотвыкла я как-то от домашнего хозяйства.
А потом Данила проснулся, и я рассказала ему про Гейни.
Быть тактичной не получилось, быть сочувствующей – тоже, оставалось просто быть такой, как есть. Зеркало молча играло отражениями, моим и Данилы. И квартиры. Сложный рисунок светотени на полу, сложный рисунок черных пятен на обоях, сложный рисунок Даниловых эмоций на его лице. Ребенок, который ничего не умеет скрывать.
– Это из-за тебя! – его голос разнесся по квартире, заполняя пустоту, больно ударил по ушам. Заткнуть бы их, чтоб не слышать.
– Это из-за тебя!
Он сделал первый шаг. Потом еще один.
– Я тебя ненавижу, слышишь? – Данила наступал, я отступала. Не ребенок, с меня ростом. Сильнее, гораздо сильнее. Широкие запястья, широкие ладони, пальцы длинные. Не о том думаю, совсем не о том. Данила зол, но не настолько же, чтобы…
– Ты – стерва, богатая, зажравшаяся сука!
Красные пятна на его щеках, будто румянами мазнули… какая чушь в голову лезет.
– Тебя убить надо, – он уже не орет, и это внезапное спокойствие внушает настоящий ужас. А отступать некуда, за спиной холодная скользкая поверхность. Зеркало.
Я хочу туда, в зазеркалье, спрятаться, можно и навсегда. Данила близко… сказать, попросить успокоиться, наорать… что-нибудь сделать, а меня точно парализовало, даже пальцем шевельнуть не в состоянии.
– Ты… ты… – он силился что-то сказать. Чужое лицо, искаженное, испорченное, звериное… не хочу видеть. Закрываю глаза. Все равно. Теперь совершенно точно все равно, что со мною случится. Время тянется, вдох-выдох и несколько ударов сердца.
– Ненавижу! – он выдохнул это слово мне в лицо. И в следующую секунду оглушительный звон стер и звуки и слова… дождь осколков.
Больно.
Мы сидели в кухонной зоне. Молча, стараясь не встречаться друг с другом взглядами. Перемирие? Вынужденное, оплаченное разбитым зеркалом – серебристо-стальная груда на полу – и кровью? Мне порезало щеку и шею, Даниле руку. Обработанные перекисью раны жгли, но не так сильно, как обида. За что он так? Почему?
Данила первым нарушил молчание:
– Это ты ее убила.
– Гейни? – Курить хочется настолько, что почти чувствую вкус сигаретного дыма. Лилово-смородиновый, слегка отдающий мятой. А Данила вместо ответа кивает. На щеке царапина, нужно обработать, но ведь не дастся. Теперь он меня ненавидит, раньше просто недолюбливал, теперь же ненавидит. Мысли прыгали, бессвязные и нелогичные. Костик сказал бы – женские.
Костик – специалист по чужим мыслям. А Гейни убили.
Совсем убили. И теперь Данила меня ненавидит.
– Она все про тебя знала, и ты ее убила. – Данила сжал руку в кулак, на белом бинте проступили красные пятна. Господи, да за что мне все это? – Заказала. Сначала маму, потом Гейни.
Маму? Он про Ташку говорит? Я заказала Ташку?
– Ты кури, ты всегда куришь, когда психуешь, – продолжил Данила. – И вчера тоже курила, еще до того, как про Гейни узнала. А с чего, если тогда все было в норме? И после обыска курила. Они ж поэтому обыскивали, правда? Из-за Гейни?
Сыщик. Еще один сыщик на мою голову, только этот не станет слушать доводов и доказательств, ему не нужны санкции и ордера, он уже все решил, рассмотрел и вынес приговор.
Оправдываться? Мне оправдываться перед пятнадцатилетним мальчишкой, который фактически живет за мой счет? Унизительно.
– Данила, Ташу… Наташу я любила. Всегда любила, несмотря на то что давно не видела. Я никогда бы не… даже подумать не могла! – Срываюсь на крик и замолкаю. Гордость в горле тяжелым комком, не проглотить, того и гляди подавлюсь.
А сигареты безвкусные, но успокаивают. Руки, правда, дрожат. И на костяшке царапинка, которой прежде не заметила.
– Врешь ты все, – Данила поднялся. – Ты только себя любишь. И Костика своего… а остальные побоку.
Он ушел. Я не пыталась остановить. Я сидела, рассматривая чертову царапину на пальце, прислушиваясь к слабому жжению в порезах.
Принц, выбравшись из-под стола, сел напротив и, склонив голову набок, слабо заскулил. А ему что от меня надо? Что им всем от меня надо? Я не убивала. Я никогда бы не смогла…
Груда осколков на полу переливалась серебром и солнечным светом.
Нужно позвонить Костику, я просто не вынесу этой тишины.
Гейни умерла. Ее теперь не будет больше. Странные слова, страшные слова, солоновато-горькие, как кровь из прокушенной губы. Бурая струйка стекает по подбородку, щекотно, а сил, чтобы взять и вытереть, нет.
Непонятно, как дальше. Он трус и слабак, даже ударить не смог, не то что убить. И испугался, когда зеркало разлетелось и кровь пошла, решил – вены перерезало, а тетка, та успокоила, полила чем-то жгучим и перебинтовала. Вот он, бинт, уже сероватый, набравший пыли, с темными крапинами подсохшей крови.
От крови тошнит. И от ненависти тоже. Только ненавидеть получается плохо, точнее, совсем не получается. У тетки глаза синие-синие, как у мамки, и смотрела так же… беспомощно. И зажмурилась со страху. Вот если б она не зажмурилась, Данила ударил бы, или в горло вцепился, душу вытряхнул бы, и плевать, что потом суд и тюряга. Он ведь собирался, за маму и за Гейни, за то, что их нет, а он, Данила, жив.
А вышло, что трус и слабак.
И рука болит. И что дальше делать – непонятно. Возвращаться? Смотреть на нее, жить с ней в одной квартире, вежливо делать вид, будто все в норме? Да от одной мысли наизнанку выворачивает. Нет, возвращаться он не станет. Остается идти. А куда?
В никуда. По улице. Горячий асфальт, пыль, редкие больные деревья вдоль дороги, листья отчего-то не зеленые, а серые. И люди, которые идут навстречу, тоже серые. И отражения в витринах. Данила остановился перед одной, разглядывая себя. Дикий. Натуральный псих. А плевать, психам даже проще, с них спросу никакого… и был бы он психом – ударил бы, не задумываясь.
Ознакомительная версия.