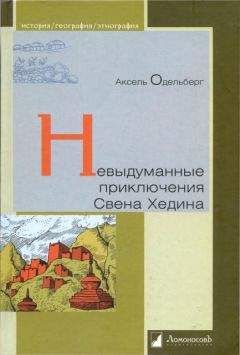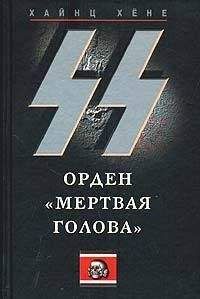Йоганн Штрюбинг сразу включился в работу.
Каким образом лучше всего ликвидировать сеть "Красной капеллы" в Берлине? Расшифрованные радиограммы, проходившие через ФуIII, к концу июля открыли путь к ядру организации, но пока ещё не было полного представления о всей сети информаторов, агентах и каналах связи.
Гестапо стали известны имена только трех ведущих агентов: Шульце-Бойзена, Харнака и Кукхофа, и только часть их сообщений, переданных в Москву. Вот и все, но прежде чем начать действовать, предстояло выяснить гораздо больше. Штрюбинг приказал прослушивать телефоны всех трех руководителей "Красной капеллы", а каждого их гостя проверять, стараясь не привлекать внимания. Очень скоро список людей, попавших под наблюдение, сильно разросся, и стали прорисовываться истинные масштабы деятельности вражеской агентурной сети.
Штрюбинг ещё только представил Копкову свой первый отчет о ходе расследования, когда действия Хайльмана свели все планы гестапо на нет. Копков со Штрюбингом опасались, что информация Хайльмана позволит противникам ускользнуть. Они так поспешно бросились действовать, будто агенты вот-вот могли испариться.
Ранним утром 30 августа в РСХА было принято решение о немедленном начале операции, а несколько часов спустя черные машины гестапо с ревом неслись по берлинским улицам. Один за другим были арестованы многие члены "Красной капеллы". Первым в этом списке оказался Шульце-Бойзен, за ним лично приехал Хорст Копков. В середине дня он посетил полковника Бокельберга, руководителя аппарата Министерства авиации, и все ему рассказал. Поскольку гестапо не разрешалось производить аресты на армемйской территории, Бокельберг вызвал лейтенанта Шульце-Бойзена, взял его под арест и передал Копкову. Остальные аресты тоже прошли гладко и без лишних церемоний.
3 сентября Штрюбинг прямо на станции "Ангальтер" взял под стражу Либертас, когда та уже села в поезд, чтобы уехать к друзьям в Мозель. До того времени Либертас скрывалась в доме своего приятеля Александра Шпорля.
7 сентября подразделение гестапо обыскало пансион "Фишендорф" в Куршской косе в Восточной Пруссии и ещё до завтрака обнаружило своих жертв - отдыхающую чету Харнаков. Милдред Харнак закрыла лицо руками и застонала:
- Какой позор, какой позор!
Один за другим тихо и незаметно все оказались в лапах гестапо. На второй неделе сентября пришла очередь Адама Кукхоффа, Грауденца, Коппи, Зига, Карла Шумахера и Ильзе Штебе, 16 сентября за ними последовали Кюхенмайстер, Шеель, Шульце и Вассенштайнер, 17 сентября - Гимпель и Ролофф, а 26 сентября - Вайзенборн и Риттмайстер.
На даже механически выверенная точность, с которой производились аресты, не могла скрыть тот факт, что даже с точки зрения самого гестапо аресты не решали проблему. Штрюбинг все ещё блуждал в потемках и едва ли мог добиться признания вины от от узников, подозреваемых в государственной измене. Факты свидетельствуют о том, что в первые десять дней после тридцатого августа арестовали только пятерых, а это само по себе веское доказательство недостаточного знания гестапо организации "Красной капеллы".
И тогда Штрюбинг попытался заставить арестантов говорить. Штат сотрудников подотдела IV A2 был слишком ограничен, и ему пришлось просить подкрепления.
Внутри РСХА сформировали "Особую комиссию по "Красной капелле". В неё вошли лучшие следователи из центрального аппарата гестапо. Из двадцати пяти её членов большинство (тринадцать) пришло из отдела А2, остальные из А1 ("коммунисты, марксисты"), А3 ("реакция, оппозиция") и А4 ("меры безопасности, особые случаи"). Руководил комиссией Фридрих Панцингер, * оберрегирунгсрат, одногодок Мюллера и его земляк - баварец, который до того руководил отделом А. Но основную работу взвалили на Хорста Копкова.
(* Фридрих Панцингер родился 1 февраля 1903 года в Мюнхене. В 1919 году поступил в полицию и служил вместе с Мюллером с 1927 по 1929 год. Потом перешел в IV cектор мюнхенского управления полиции. В 1934 году получил повышение, в 1937 году перешел в берлинское гестапо, а в 1939 году - в IV управление РСХА (гестапо), вскоре после этого возглавил отдел IV A. Прим. авт.).
Долгие годы эти люди оттачивали технику допроса, знали все хитрости и уловки и никогда не испытывали ни малейших угрызений совести. Инквизиторы из РСХА набросились на свои жертвы. Однако поначалу узники отказывались что-либо говорить, и им едва ли удалось найти хоть одного, готового с ними сотрудничать. Шульце-Бойзен ничего не признал, кроме неопровержимых фактов. Штрюбинг вспоминает: "Сначала он отрицал любую связь с иностранными агентами, не говоря уже о какой-либо предательской деятельности, в качестве доказательства ссылаясь на свое окружение". Он отказался признаться, даже когда ему предъявили копии расшифрованных радиограмм из Москвы. Харро продолжал настаивать, что он с друзьями встречался по личным мотивам; на этих встречах изредка обсуждались политические вопросы, но ни о какой предательской деятельности ему ничего не известно.
Штрюбинг оставил эту тему и вовлек Шульце-Бойзена, которому поначалу позволили носить военную форму, в пространные дискуссии о литературе и естественных науках, всячески подчеркивая, что их разговоры не записываются. Они могли часами расхаживать по внутреннему саду РХСА, дружелюбно беседуя о чем угодно, но Шульце-Бойзен так ни в чем и не признался.
Один из следователей комиссии Райнгольд Ортман также потерпел неудачу со своим подопечным Йоханном Грауденцем. Он вспоминает: "Мне несколько раз пришлось допрашивать Грауденца, но безрезультатно. Он только признался, что был близким другом Шульце-Бойзена и они вместе проводили летний отпуск". Ортманн посчитал дело настолько безнадежным, что вернул досье Грауденца Копкову.
Не лучше были результаты и у других. И Адам Кукхоф, и Арвид Харнак упорно отказывались что-либо признавать и не шли на сотрудничество с гестапо. На какое-то время могло показаться, что соратники Шульце-Бойзена выступают единым фронтом, неприступным для самых хитроумных уловок следователей.
Но картина заговора молчания была обманчива; внешняя монолитность фасада стала давать трещины, обнажая внутренние конфликты и неурядицы соратников Шульце-Бойзена, существовавшие ещё до ареста. Через несколько дней начался процесс, который даже сегодня трудно чем-либо объяснить: стихийная капитуляция коммунистических агентов, названная Дэвидом Даллином "Большим предательством".
Первой нарушила молчание Либертас Шульце-Бойзен. Для неё сам факт ареста уже разрушил мир иллюзий. Долгое время она считала конспиративную деятельность мужа делом несерьезным; то, что для него было судьбой и призванием, ей казалось игрой. Только в последние месяцы она начала кое-что понимать, но к этому моменту они были настолько чужими друг другу, что совместная жизнь стала невыносимой. Либертас хотела развода, и только настойчивые просьбы Шульце-Бойзена не бросать "дело" на произвол судьбы, удержали рядом с ним эту артистичную, наивную и непоследовательную натуру.
Ей удалось убедить себя, что все как-нибудь обойдется. Арест показал, как она ошибалась. Прежние иллюзии уступили место новой: поскольку она была внучкой принца, гестапо отпустит её на свободу, но при условии, что она выступит на предстоящем процесс в качестве свидетеля обвинения против своих друзей. В этом её обнадежила женщина, к которой Либертас обратилась в трудную минуту.
Гертруда Брайтер числилась в списках гестапо машинистской подотдела IV Е6. Ее выделили в качестве стенографистки-машинистки старшему офицеру криминальной полиции Альфреду Гонферту, который допрашивал Либертас Шульце-Бойзен.
Женщины познакомились в кабинете Гонферта. Однажды тот по какому-то поводу вышел, и они разговорились. Было уже далеко за полдень, и Гертруда оказалась втянутой в разговор, который впоследствии определила как "просто беседу".
Начала фрау Щульце-Бойзен:
- Ну, и как же вы здесь оказались?
Гертруда Брайтер пожала плечами.
- Не все на сто процентов согласны с тем, что происходит в этих стенах. Но, в конце концов, идет война.
Фрау Шульце-Бойзен попыталась завоевать доверие машинистки. После десяти минут сдержанного зондирования она выпалила:
- Я хочу попросить вас только об одной услуге. Не могу назвать точный адрес, но не могли бы вы предупредить Ганса Коппи?
Как примерный член национал-социалистической партии, Гертруда Брайтер знала, что делать.
- Я была очень взволнована, - вспоминает она. - Мне стало страшно, что Гонферт будет отсутствовать слишком долго, и я забуду имя. Когда он вернулся, я сделала ему знак и сказала: "Извините, но мне нужно на минутку выйти".
Она буквально кинулась на третий этаж здания РСХА в кабинет Копкова и рассказала ему об услышанном. Сначала Копков возмутился неожиданным вторжением секретарши и посоветовал ей подать письменный рапорт в установленном порядке. Только когда Гертруда буквально вышла из себя, он отнесся к её информации всерьез, и в ту же ночь Коппи арестовали.