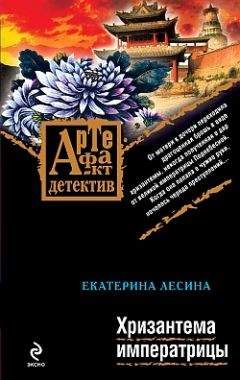Ознакомительная версия.
– А вам не кажется, что я не успел бы?
– Вполне себе успели. Вы ведь уже были, когда Евгения приехала, правда, она об этом не знала...
– Она звонила ему, – очнулся от раздумий Вельский. – Я слышал. Звонила и разговаривала. Потом... потом я разозлился.
Он густо покраснел, а Герман, кивнув, продолжил.
– Разговаривала. Из соседней квартиры. А потом столкнулась с тобой, испугалась и снова позвонила. Ну а вы поняли, что такой случай нельзя упустить, и жертва, и орудие убийства, и предполагаемый убийца – все сложилось как нельзя кстати. Вероятно, вы солгали, что находитесь неподалеку, приехали утешить и успокоить, и убили.
– Бред, – Эдичка поднялся и, подав руку Эльжбете Францевне, велел. – Идем мама, нам здесь больше нечего делать...
Герман не стал их задерживать, не попытался сделать это и Мирон Викентьевич, сидевший с видом задумчивым и усталым. Только пес у ног Вельского лениво зевнул, продемонстрировав черную пасть, белые клыки и длинный, розовый язык.
Неужели на этом все и закончится?
– Не волнуйся, милая моя, – мягко сказала Дарья Вацлавовна, прилаживая на ткань бледно-желтый, шелковый стебелек. – В этой жизни никогда и никому еще не сходила с рук подлость.
Было ли это деянием высших сил, решивших разом восстановить справедливость, либо же постарались силы земные, облеченные погонами и властью, но предсказание Дарьи Вацлавовны сбылось.
Леночка, которая вопреки настоятельным маминым уговорам осталась в доме, следила за происходящим исподволь, вылавливая информацию из слухов, редких, наполненных неловкостью и смущением, встреч с Германом, еще более редких, дабы избежать встреч, визитов к Дарье Вацлавовне.
Жизнь постепенно входила в колею если не прежнюю, то во всяком случае не сильно от прежней отличную. Все изменилось и вместе с тем осталось неизменным, что было странно, алогично, но так было.
Был Эдик и Шурочка, дожидавшиеся суда, и Мирон Викентьевич, уверенный, что сумеет доказать виновность обоих. Была Эльжбета Францевна и мама, ставшие в один миг врагами. И война, как водится, была: сплетни против сплетен, слухи против слухов, обвинения в клевете и многое другое, казавшееся Леночке глупым, ненастоящим и не имеющим к случившемуся никакого отношения.
Был Вельский, выгуливающий по утрам Демона, и Данка с криволапой, дефектной, но очаровательной Женевьевой.
Был Милослав, чуть постаревший, но все такой же вежливый и улыбчивый.
Была Дарья Вацлавовна, полюбившая вдруг долгие сидения во дворе.
Был Герман...
– Ты отвратительно выглядишь, – Дарья Вацлавовна сделала набросок рисунка и теперь подбирала нити: несколько оттенков желтого, темная охра, яркий багрянец. На круге ткани в пока резких, черных угольных линиях проступали силуэты кленовых листьев.
– Дела сердечные, дела беспечные... – замурлыкала Императрица. – К слову, ты не спешишь отрицать, а значит...
– Не ваше дело.
– Ошибаешься, дорогой, мое. И очень даже мое. Я хочу, чтобы ты женился на Леночке.
– Что? – даже от Дарьи Вацлавовны он не ожидал подобного.
– Женился, – повторила она, протыкая иглой основу. – Загс, кольца, голуби и прочая пошлость. Сам посуди, тебе уже за тридцать, и Леночка не так и юна, хотя, не спорю, мила, очень мила... простовата, пожалуй. И слабовата. Я не могу оставить все тебе, когда есть она. Но не могу оставить и ей, потому что, во-первых, не сумеет сберечь, а во-вторых, мне не хотелось бы нарушать данное слово. Поэтому я оставлю все вам обоим. Или...
У старухи хитрый взгляд, а смех, как перезвон бронзовых колокольчиков, старых, надтреснутых, но еще способных действовать на нервы дребезжанием.
Ну уж нет, он не позволит Императрице распоряжаться его жизнью. Хватит.
В этом доме не было места детям, слишком уж надменен он, слишком чопорен, слишком тяготеет к тишине и покою. Вот и вязнут звуки в толстых стенах, оштукатуренных и покрашенных наново, и не хлопает дверь, и не беспокоят жильцов ни стук каблуков по ступенькам, ни крики, ни плач, ни лай собачий.
Тихо в доме.
Тихо возле дома, где на клумбе тянутся вверх синие стрелы аконита, кивают на ветру тяжелые листья нарядной, но ядовитой клещевины да жмутся к земле, сливаясь черно-белым ковром, анютины глазки и робкие маргаритки.
– А я все равно не хочу переезжать отсюда, – Леночка села на лавку и вытянула ноги. Вздохнула от усталости и оттого, что ноги отекли и выглядели преотвратительно, белые, с синими толстыми венками и свежим синяком. И сама она теперь ужасно выглядит: располнела, раздалась, и ладно бы только в живот, но ведь и попа, и бедра, и вообще... а этот делает вид, будто не замечает.
– Не хочу и все, – капризно заявила Леночка, прислушиваясь к шевелению в животе. Жарко. И тихо. И неуютно. Будто дом смотрит на нее, многооконный-многоглазый, приценивается, прицеливается, задумывает недоброе.
– Тогда не будем, – Герман сел рядом и поставил на землю пакеты.
– Или хочу?
Из-за облака вдруг выкатилось солнце, сыпануло светом, раскрасило дом в яркие, нарядные цвета, убрало недобрые тени и вот уже ни следа прежней мрачности. Дом как дом... старый, в три этажа всего, ну или в четыре, если с чердаком считать. Узкий и высокий, этакая башенка из поставленных друг на друга кубиков.
А кубики надо будет купить.
– Купим, – пообещал Герман. Ну почему он всегда со всем соглашается? И почему просто не скажет «переезжаем». Или как вариант «остаемся». Леночка бы поспорила, поругалась, поплакала и успокоилась бы, а так...
Неприлично громко хлопнула дверь и во двор, разрушая остатки спокойствия, выскочил Демон, волочащий на поводке Данку.
– Стой! Фу! Брось! Место!
Не-а, не послушает, Демон только Вельского уважает.
– Привет! – крикнула Данка, притормозив на повороте. – А у нас соседи новые! Представляете, у них кошка и...
...и все-таки, переезжать или нет? Императрица против, мама – за, а Герману, кажется, все равно. Леночка вздохнула и, достав из пакета зеленое яблоко, вытерла о платье.
Завтра она решит про переезд. Ну да, именно завтра, а пока ей просто хорошо сидеть на лавочке с мужем, есть яблоко и смотреть, как покачиваются на ветру синие стрелы аконитов.
А следующей весной нужно будет хризантемы посадить... ну да, как ей сразу в голову не пришло? Хризантемы и ландыши, ведь больше Леночка не боится цветов.
* * *
Цветок был совершенен каждой линией своей. Цветок был отвратителен уже потому, что его принесли в тот день и час, когда Цыси потеряла ребенка.
Императрица не имеет права на слабость и слезы, и пусть же та боль, которую испытывает тело, избавит от сожалений. Внутри пустота... кровью пахнет. Смертью. Знакомо и вместе с тем отвратительно, ведь появляются нехорошие мысли, что этот ребенок мог бы жить. Мог бы родиться, вырасти, стать кем-то, кто бы действительно любил Великую Императрицу Западного дворца... мог бы.
Но Сянфэн несколько лет как мертв, а двор требует соблюдения приличий. И это случайное, нерожденное дитя могло бы сделать то, что не удавалось прочим – погубить Цыси. Тунчжи, Цыань и другие не простили бы ошибки, а посему выход один.
– Теперь вам нужен покой и отдых, – врач, приведенный тайком, смущен. Он плохо говорит на языке Поднебесной, чужак, который вскоре уберется из страны, так безопаснее...
Вода с кровью, полотенца, которые потом сожгут, верный евнух у дверей...еще безопаснее избавиться от врача, но сегодня, именно сегодня Цыси не вынесла еще бы одной смерти. Прикрыв глаза, она велела:
– Принеси.
Опиум даст облегчение и забвение. Опиум вернет ей прежнюю силу. В конце концов, случившееся сегодня – лишь неприятное мгновенье, каковых в жизни Цыси-Ланьэр было много. Так стоит ли жалеть? Так стоит ли хранить память? Одежды ее сожгут вместе с полотенцами, а хризантема... от хризантемы Цыси избавится. И проведя по каменным лепесткам – на пальце вспухла капля крови – Императрица протянула брошь врачу.
Почему бы и нет? Плата за услугу. Каприз.
Капризы в отличие от слабостей, Императрица могла себе позволить.
Все императорские наложницы делились на пять рангов, низшим из которых был «гуй жень» или «драгоценный человек», следующей ступенью была «бинь», что можно перевести как «сожительница», далее – «фей», или «любовница», и «гуй фей» «драгоценная любовница», ну а самым важным являлся – «хуан гуй фей» – «драгоценная императорская любовница». Жена-императрица всегда была лишь одна, и для посещения наложниц императору требовалось официальное разрешение супруги, письменное и с печатью. (Прим. автора.)
Ознакомительная версия.