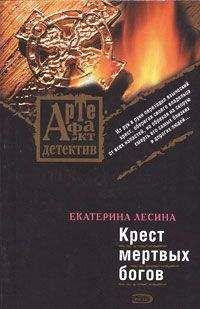Ознакомительная версия.
– А ты поверил? В этом мире никому нельзя верить, Данька… никому и никогда.
Это точно, никому и никогда. Разве что собакам, но уж точно не людям. Руслан толкнул дверь и громко, сколько хватило глотки, рявкнул:
– Стоять! Оружие на пол!
– А, командир, ты, что ли? А орешь чего? – Гаврик улыбался, широко и радостно, а Гавриков пистолет упирался в бритый мальчишкин затылок. – Не надо орать, лучше давай по-дружески проблему решим. А про оружие ты верно сказал, давай на пол, не то разговору не получится. Обидно будет, если разговору не получится, правда?
Твою ж мать! Ну что за день сегодня такой? Руслан, нагнувшись, положил пистолет.
– Итак, Сергей Аполлонович, будьте добры, расскажите о той подрывной деятельности, которую вели, хитростью внедрившись в ряды ОГПУ? – Фильский, присев на край стола, протирал носовым платком стекла очков.
Допрос этот длился четвертый час кряду, признаться, поначалу я решил, будто возникло недоразумение, все ж таки биография моя не совсем вписывалась в нынешние каноны, ни рабочее-крестьянским происхождением, ни участием в революции либо гражданской войне в рядах Красной армии я похвастать не мог. Однако же надеялся, что годы безупречной службы станут достаточным подтверждением моей лояльности.
– То есть вы утверждаете, что работать здесь не желали? – Фильский прищурился. – Тогда почему не отказались? И почему не желали? Вы не были согласны с политикой, которую провозгласило государство и товарищ Сталин?
Я отвечал, по третьему или по четвертому кругу… я пытался объяснить, уже понимая, что никакой ошибки не было, что Никита попросту отдал меня в качестве откупной жертвы, сохраняя собственную шкуру.
– Как вы объясните следующие факты, – Фильский зашуршал бумагами. – Вот, к примеру, службу в госпитале, где, по показаниям свидетелей, имели тесные дружеские отношения с Харыгиным Федором Николаевичем, впоследствии осужденным за многочисленные преступления против Советской власти и народа? И смерть товарища Озерцовой Оксаны Евгеньевны фактически сразу после свадьбы с Озерцовым Никитой Александровичем?
– Малярия…
– Или отравление? С целью вывести товарища Озерцова из душевного равновесия? И, быть может, именно по причине личной трагедии он манкировал служебными обязанностями, в результате чего заговор сотрудников госпиталя был раскрыт намного позже, чем это могло бы быть? А ваша беседа с Харыгиным? А ваше странное желание присутствовать при расстреле, чего, по словам тех же свидетелей, вы всегда избегали? А ваши тесные отношения с известным мошенником, выдававшим себя за служителя церкви? И смерть его от вашего же оружия? Тоже случайность?! Или вы надеялись использовать его в качестве орудия, смущающего умы простого народа дурманом веры, но не поделили прибыль?
– Какую прибыль?! – я кричал, поскольку не мог более выносить этот бред. Фильский, закурив – господи, до чего же курить-то хочется… и пить… и в туалет… – произнес:
– А вот вы, Сергей Аполлонович, сейчас и расскажете мне, какую прибыль вы не поделили. И почему урожденный дворянин, белая кость, голубая кровь… офицер армии Его Императорского Величества… кавалер ордена Георгия третьей степени стал работать в ОГПУ.
Сигаретный дым плыл вверх, сворачиваясь кольцами. На петлю похоже, на ту, что затягивается вокруг моей шеи…
– Ну, Сергей Аполлонович, с вашим-то опытом следует понимать, что рано или поздно, но признание я выбью. Лучше расскажите все сами.
Я рассказал, точнее, рассказывал, вытягивая из памяти детали, которые хоть как-то могли убедить в моей правдивости. Я делал это не из страха, скорее рассказ мой больше походил на исповедь.
Священника бы еще другого.
И в качестве прощения – мой револьвер, на этот раз я бы выиграл в американку…
Дознание продолжалось неделю или больше. А может, и меньше, время смеялось надо мной, то слипаясь в короткие мгновенья сна и отсутствия боли, то растягиваясь на долгие часы допросов.
Мне не давали ни умереть, ни потерять сознание надолго, раз за разом вытягивая из милосердного небытия, чтобы задавать вопросы.
Спрашивающие менялись… Фильский уехал, но Гришка с Мишкой остались. И Никита. И другие, которых я смутно помнил по прежней жизни, когда еще не был врагом.
Мучительно.
Нелепо, но я их понимал, и их внезапную ко мне ненависть, которая лишь прикрывала страх. Любой мог оказаться на моем месте, а они не хотели… и я тоже…
Поздно. Пятно света на потолке, пятна крови на полу… на собственную кровь смотреть странно… черной кажется… и горькой.
Почему я сопротивляюсь? Всего-то и надо, что ответить на их вопросы так, как им хочется… я знаю правила… я держусь за собственную правду… я не хочу брать на себя еще и этот грех.
Сегодня допрашивает Никита. С ним легче, чем с остальными, тоже старается, но не так остервенело.
Лучше бы пристрелил, как того пса… все равно сдохну, так чего тянуть. А пол холодный, встать надо, но сил осталось лишь на то, чтобы свернуться клубком.
– Что ж ты наделал, сволочь белогвардейская? – Никита присел рядом. – Зачем, а? Зачем молчишь, я тебя спрашиваю?
Его сапог вписался в ребра. Больно. И кашлять больно. А во рту горько и зубов не хватает, перед носом лужа крови… и рвота… снова рвет… отползти бы, руками в пол и в сторону. Встать, сначала на четвереньки, потом на колени. Кружится все… кружится… плывет… у Никиты синие глаза… у Оксаны синие глаза… и небо синее, а потолок белый… в красных пятнышках.
Комаров били. И меня тоже.
Больно.
– Вставай, – Озерцов помог подняться и усадил на стул. – Что ж ты придумал, а, Сергей? Ну зачем ты это со мной делаешь?
– Что… делаю? – рот онемел, и звуки корявые выходят, но Никита понимает.
– Упрямишься зачем? Запираешься зачем? Вредителей жалел, а теперь и сам вредитель… и я тоже буду, если признание не выбью… я не хочу тебя бить, Сергей Аполлоныч. Мне больно от этого, мне противно, сам себя ненавижу.
А мне все равно… сидеть бы на стуле, вот так, целую вечность, и чтобы кружение стихло, а спинка упиралась в лопатки… и если дышать медленно, то и ребра не сильно беспокоят.
– На вот, выпей, – Озерцов сунул в руку стакан, а пальцы не держат… наверное, сломали. Жаль, почерк теперь испортится.
– Пей давай, Сереженька, пей, – Никита сам держит, сам поит, а вода соленая, невкусная, но глотаю, хоть и не хочу воды. Ничего не хочу, разве что покою.
– Признайся, а? Ну я сам все напишу, а ты только подпись поставишь и на трибунале тоже покаешься… лагеря – не расстрел.
Я отказался. В очередной раз отказался. Я не стану каяться, ибо не виновен. Я не стану обвинять других людей. Я хочу использовать этот шанс и вновь стать человеком. Почему он не понимает?
– Подумай, Сергей Аполлонович, – руки Никиты дрожат, а вода в стакане отчего-то розовая, такой не бывает.
– Значит, нет?
Нет.
Бьет не по мне – по стулу, ногой, опрокидывая на пол… сапоги кованые, я сам к сапожнику носил… блестящие гвоздики на подошве… и каблуком на руку, на пальцы, проворачивая. Кажется, кричу… Господи, за что ты меня?
За равнодушие. Только сейчас начинаю понимать, насколько виноват. И уходить вот так, без искупления и прощения, страшно, не уходить – больно. Но чего они от меня хотят? Почему не оставят в покое? Почему не позволят просто умереть?
Прихожу в сознание резко, мучительно, с кашлем и болью во всем теле. По небу плывут белые круги… это не небо – потолок… а круги – след от свечей. Лежать, не шевелиться, не открывать глаза, выманить обманом несколько минут покоя… еще одного допроса не выдержу, признаюсь.
– За что ты так со мной, а? – прикосновение к волосам, до того осторожное и ласковое, что в первую минуту кажется, будто я все-таки сошел с ума.
– Я ведь не хотел, я ведь взаправду не хотел, – Никитин голос неправдоподобно тих. – Ты заставил… они и ты меня заставили… почему не признался сразу?
Никита плакал, я никогда прежде не видел, чтобы он плакал. Наверное, чудится… наверное, я еще не пришел в сознание… и боль тоже чудится… и пятна-тени на потолке… и слезы эти.
– Ты лежи, лежи… еще немного времени есть, – говорит Озерцов, и слова эти дополняют картину охватившего меня безумия.
Не страшно. Больно только… и дышать нечем.
Моя голова у него на коленях, его руки поддерживают, его руки подносят флягу со спиртом и вытирают кровь. Невозможно.
Ознакомительная версия.