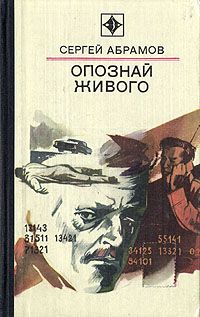— А санатории?
— Лучшие санатории за Ялтой — в Ливадии и Мисхоре. А здесь один пляж. Кстати, он под нами. Выкупаемся?
— В бассейне чище.
— Бассейн — это коробочка. А я плавать люблю. Не хотите — подождите на берегу. Минут двадцать, не больше.
Он выбрал клочок пляжа почище, проковылял по камням к воде, и вдруг, нырнув, быстро уплыл вперед, почти невидный в прибое. Я тотчас же засек воспоминание. В шестнадцать лет я так же поджидал его на пляже в Лузановке, а он — если то был он — мелькал движущейся точкой вдали. Он и в детстве резвился дельфином, не обращая внимания на оградительные буйки.
Опасно поддаваться навязчивой идее и подгонять под нее все, что просится подогнать. Начнем с исходного пункта: Сахаров есть Сахаров. Преуспевающий оценщик комиссионного магазина. Муж влюбленной в него пышнотелой блондинки. Неглуп, практичен. Нравится женщинам, но не кокетничает. Так не ищите знакомого в незнакомом, полковник, не будите давно уснувших воспоминаний. Подозрительность — плохой исследователь человеческих душ.
На теплоход мы возвращаемся и сразу — в бар. Мальчишка в белой курточке переставляет на стойке бутылки с иностранными этикетками.
— Попробуем мартини, Михаил Данилович, — предлагаю я тоном знатока-дегустатора.
Сахаров улыбается:
— Это вам не загранрейс. В лучшем случае подадут фирменный или дамский. Правда, бой?
Я настораживаюсь. Реплика режет ухо. Мальчишке тоже.
— Я не бой. Если говорите по-русски, обращайтесь, пожалуйста, как полагается.
Молодец бармен, хотя тебе и не больше семнадцати лет. Срезал-таки оценщика. А может быть, тот сказал это нарочно, с целью подразнить меня: вот тебе, мол, и промах разведчика, лови, мил друг, если сумеешь. Как говорится, «покупка» вполне в духе моего давнего знакомого Павлика Волошина.
Сахаров, игнорируя реплику бармена, не очень заинтересованно спрашивает.
— А что же есть в репертуаре?
— Могу предложить «Черноморский».
Это обыкновенная смесь ликера, водки и коньяка. Гусарский «ерш».
— Как на войне, — смеется Сахаров. — Мы так же мешали трофейный ликер, чтобы отбить сладость.
— Где воевали? — мимоходом спрашиваю я как можно равнодушнее.
— Где только не воевал! И под Вязьмой, и на северо-западе.
Продолжать ему явно не хочется, и я не настаиваю. Отставляю с отвращением «ерш» и потягиваюсь:
— Ну что теперь делать будем? Шляфен или шпацирен геен?
— По-немецки вы говорите, как наш старшина из Рязани.
— А вы?
Он пожимает плечами.
— Научился немного в лагере.
— В каком?
— В плену. На Западе.
— По вашей комплекции не видно. Разве шрам только.
— Американцы, захватив лагерь, откармливали нас, как индеек. А шрам — это с детства. Нырнул неудачно, рассек о камень.
Выходит, Сахаров есть Сахаров, энный человек со случайным сходством с кем-то, тебе очень знакомым. Настолько знакомым, что у тебя даже при мысли о нем холодеет сердце. Но пусть оно не холодеет, тем более, как нам тогда сообщили — потом, позже, — нет в живых этого человека. Обычной гранатой-лимонкой разнесло его в куски на бывшей Соборной площади. А бросил гранату даже не наш парень, то есть не из нашей группы: Седой знал его, а мы нет. Я, признаться, очень огорчился, что это была не моя граната.
Ну что ж, полковник Гриднев может теперь бездумно продолжать свой круиз по Черному морю.
Но…
Сахаров, прежде чем свернуть в коридорчик, где находится его полулюкс, снова закуривает. И снова знакомый жест. Два пальца, отставленный мизинец и пристальный задумчивый взгляд на тлеющий огонек сигареты. Такие привычки неискоренимы потому, что их не замечают и о них не помнят. И они индивидуальны, как отпечатки пальцев, двух одинаковых быть не может.
Нет, бездумный круиз не продолжается.
Сидя в кресле каюты на шлюпочной палубе, я подытоживаю воспоминания и впечатления дня.
Более тридцати лет назад, когда Павлик Волошин уезжал в Берлин к отцу, он уже курил присланные отцом английские сигареты «Голдфлейк». Курил щегольски, держа сигарету большим и указательным пальцами, отставив при этом мизинец, и вынимал ее изо рта, поглядывая на тлеющий огонек. Точно так же он закурил ее и в сорок третьем году, когда появился в Одессе у своей матери на улице Энгельса, вынужденно переименованной в дореволюционную Маразлиевскую. Был он в черном мундире СС, в звании гауптштурмфюрера и в должности начальника отделения гестапо, я не знал точно, какого именно отделения, но интересовался он, как и все в гестапо, главным образом одесским подпольем. Он вежливо и церемонно поцеловал руку Марии Сергеевне, театрально обнял меня как старого школьного друга и закурил. Тогда я и узнал, что зовут его уже не Павлик Волошин, а Пауль Гетцке, по имени мачехи, оставшейся в Мюнхене. Отец его к тому времени уже умер.
Навязанную мне роль старого друга я сыграл без преувеличенной радости, но и без растерянности и смущения. Встретились два бывших школьных приятеля и поговорили по душам о прежней и новой жизни.
— Кавалер Бален де Балю. Помнишь, маркиз?
— Конечно, помню.
— Кого из ребят встречаешь?
— Мало кого. Разбрелись люди. Тимчука видел.
— Тимчука и я видел. Он у румын в полиции. Думаю взять его к себе.
— Твое дело. Я с ним не дружу.
— А из девчонок кто где?
— Кто-то эвакуировался, кто-то остался.
— Галку встречаешь?
— Нет. Из дома меня выселили. В твоей светелке живу.
— Мать правильно поступила. Комната мне не нужна. А ты почему из города не удрал?
— В армию меня не взяли — плоскостопие. А эвакуироваться трудно было.
— Ты ж комсомольцем был.
— Как и ты.
Волошин-Гетцке захохотал и потрепал меня по плечу.
— Грехи молодости. Гестапо тоже не обратит внимания на твое комсомольское прошлое. Хочешь, редактором сделаю?
— Поганая газетенка. Уж лучше наборщиком.
— Значит, душой с Советами?
— С Россией. Русский я, Павлик.
— Не Павлик, а Пауль. Я теперь немец по матери. По второй матери, баронессе фон Гетуке. Она усыновила меня и воспитала в духе новой Германии. Какой на мне мундир, видишь?
Я промолчал. Я видел и внешность и нутро гауптштурмфюрера, так радостно продавшего свою Родину и народ. Даже сдержанная Мария Сергеевна после его ухода сказала мне с нескрываемой болью:
— Это уже не мой сын, Саша. Чужой. Совсем, совсем чужой…
Я попробовал сыграть:
— Что вы, Мария Сергеевна! Павлик как Павлик. Только зазнался.
— Нет, не зазнался, Саша. Онемечился.
— Грустно, — сказал я.
— Не только. Страшно.
Мне тоже было страшно. По краю пропасти идти не хотелось. Но Седой сделал неожиданный вывод:
— Перебрасывать тебя в катакомбы пока необходимости нет. Даже наоборот. Листовки, конечно, бросишь, а из школьной дружбы с гестаповским чином можно извлечь и пользу. Рискнешь?
Я думал.
— Если боишься, не неволю.
— Не боюсь. Трудно.
— А мне не трудно?
— Так ведь играть надо. А какой из меня актер.
— Сыграть нейтрала не так уж сложно. Немножко испуга, растерянности, сомнений. А вражды нет.
— Да мне каждое слово его ненавистно. В глаза плюнуть хочется.
— А ты гляди с завистью на правах старого друга, которого жизнь прибила.
— Сорвусь.
— Не исключено. А кто из нас не рискует?
И я рискнул. Пауль пришел через несколько дней в воскресенье. Пришел не столько к матери, которой он церемонно целовал руку, сколько ко мне. Влекли, должно быть, школьные воспоминания, возрастные ассоциации, возможность пооткровенничать с человеком, который для гестаповца безопасен. А может, и пощеголять хотелось тем, как изувечили душу русского школьника гитлерюгенд и впрыскивания речей Розенберга и Геббельса.
Разговаривали мы свободно, не стесняясь, спорили и убеждали друг друг — я с позиции «прибитого жизнью» нейтрала, он с высоты счастливчика, удачливого игрока, новоиспеченного хозяина жизни.
— Удивляюсь твоей ограниченности. Неужели тебя, будущего юриста, удовлетворяет деятельность типографского наборщика?
— А где университет, чтобы юрист будущий стал настоящим?
— После войны мы откроем университеты. Не очень верь демагогии Геббельса: она для быдла. Каждый здравомыслящий немец понимает, что управлять Украиной без украинцев, а Россией без русских будет невозможно. Понадобятся специалисты во многих областях знания. Конечно, командовать будут победители, но и побежденным останется немалый кусок пирога.
— А кто жует этот кусок пирога? Жулье, подонки, прохвосты и уголовники.
— Издержки первых лет войны. Кого же выбирать из вас, если интеллигенция удирает при нашем приближении или отсиживается в наборщиках? Все вы поклонитесь после победы.