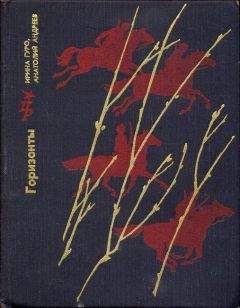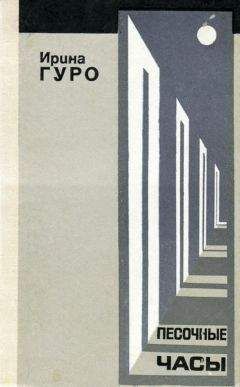Я была у дяди в номере гостиницы «Савой», когда ему позвонили.
Дядя взял трубку. Вероятно, его соединяли с кем- то, в трубке послышался щелчок переключения, и чей- то спокойный, сановитый голос что-то мягко произнес, на что дядя ответил:
— Здравствуй, Илья Агафонович. Спасибо. Ничего себя чувствую, по-стариковски.
Голос опять что-то ласково пророкотал, и дядя ответил:
— Пока ще ни, може, ты пидсватаешь?
Они еще посмеялись. Из разговора я поняла, что сейчас за дядей приедет машина и отвезет его куда-то к старому другу.
Но дядя, повесив трубку, сказал, что его вызывают в наркомат к начальству. Разговор будет о новом назначении, каком — неизвестно. А то, что ведает этими назначениями его старый друг, это роли не играет: куда нужно, туда и пошлют.
— А вы куда хотели бы, дядя? — спросила я.
— Никуда. Хотел бы в Германии остаться. Меня с немцами сам черт веревочкой связал: в 1915-м — в плену у них, в 1918-м — помогал им революцию делать… Ну а что теперь еще предстоит — кто знает?
Дядя велел мне дожидаться его в гостинице. Приехал веселый, сказал:
— Все решилось. Возвращаюсь. Сложная, сложная обстановка…
Я подумала, что дядя проявляет старомодную нервозность: ну, ультралевые, ну, социал-демократы! Не может быть, чтобы передовой немецкий рабочий класс поддался «детской болезни левизны» или «погряз в болоте оппортунизма»! Все будет хорошо
За обедом, который подали в номер, он расспрашивал о моей работе, о моих планах и вдруг сказал:
— Ты идешь по спокойному фарватеру, очень удачно твое плавание.
Я возмутилась: какой спокойный фарватер! Я все время в кипении, неожиданностях, все противоречия эпохи набрасываются именно на меня! Так я считала.
Но дядя улыбнулся, показав свою щелинку между зубами, всегда напоминавшую мне маму, и сказал, что я не поняла его мысли. Притом, что я, в общем, права, моя жизнь, хоть она и бурная, идет по прямой, с попутным ветром.
Вероятно, он был прав на то время. Но ветер переменился. Прямая моей жизни сломалась. Может быть, это случилось тогда, когда было вынесено решение о снятии меня с работы. И хотя это не было сформулировано, я поняла, что не смогу, что мне не дадут больше работать в органах юстиции. Может быть, когда Шумилов сказал мне: «Это еще не вечер». И все во мне запротестовало, потому что я не хотела дожидаться каких-то перемен. Случившееся было так несправедливо, так разительно несправедливо!
Я вспоминала теперь все без недавнего гнева, без горечи. И нисколько даже не думала о том, что делать дальше.
В тех дядиных словах присутствовала подспудная мысль: о неподготовленности к борьбе. Мне она стала ясна только сейчас.
Да, может быть. Мне всегда казалось, что справедливость побеждает. Это было наивно. Вероятно, в конечном счете где-то на высотах — да, она побеждает. Но вот на одном из этапов — не победила. И это пришлось на меня.
Все-таки я вела себя достойно. Когда губпрокурор, поглаживая свою, несомненно, крашеную бороду, сказал мне: «Вы допустили недозволенные методы: запугали свидетельницу», я ответила: «Ваше заключение строится на ложном показании этой свидетельницы. Увольнение мое незаконно».
Он не ожидал, что я так отвечу: думал, я уже сражена. И я добавила: «Зачем мне было ее запугивать? В этом же нет ни грана смысла».
«Смысл есть: создание «громкого дела»…» — произнес прокурор. И я мгновенно поняла, что к моему делу приложил руку Сева. Всеволод Ряженцев что-то как-то добавил, самую малость, какую-то каплю! Но как раз ту, которая переполняет чашу…
Я могла обжаловать решение. Поднять шум, добиваться… И не хотела этого делать. Почему? Вероятно, потому, что моя судьба тесно сплелась с судьбой двух людей: Титова и Шудри. Если Шудря будет осужден, совершится высшая несправедливость. Но «это еще не вечер» — вряд ли суд посчитается с сомнительными доказательствами, на которых будет строить обвинительное заключение мой заместитель… Сева Ряженцев! Наконец он обрел желаемое: он же просто жаждал «громких дел»!
Но почему я должна была разделять поражение Шудри? И почему — «поражение»? Шудря же настаивал на своей виновности, он оговаривал себя прямо- таки со страстью? Почему?..
Можно было без конца обращать к себе эти «почему?». Ответа не было…
Как ни мало я была подготовлена к новому своему положению, я понимала, что не смогу работать по специальности. Даже, допустим, я пошла бы в коллегию защитников. Или юрисконсультом. За мной всюду потянется эта загадочная, неясная история — причина моего увольнения, так странно сформулированная: «Несоответствие занимаемой должности…»
Я бродила по улицам, и знакомые места казались мне новыми. Никогда раньше мне не приходилось вот так бесцельно кружить по городу среди бела дня…
Из какого-то подвала в облаках пара выскочил мальчуган с раскосыми глазами и с узлом в руках. Он поклонился мне, и я вспомнила, что в подвале этом — китайская прачечная: я приходила сюда с Овидием за его крахмальными рубашками — теперь он выходил на сцену в лучшем виде.
А потом я очутилась у маленького кафе, где мы однажды сидели с Шумиловым, там еще был ползучий, во всю стену, плющ. И мне почему-то запомнилось, как на полу трепетала его тень. Словно невод.
Вдруг мне захотелось в тот фантастический сад, где грот. Но днем в нем не оказалось ничего таинственного. «Э, все равно уж!» — сказала я себе и завернула за угол таинственного дома, фасад которого Дима держал в такой тайне. Я прочла вывеску: «Кожно-венерологический диспансер». Только Овидий с его чудачествами мог столько накрутить вокруг этого! Мне казалось, что все это было очень давно. В детстве.
Машинально двигаясь, я выбралась из толпы и шла все дальше, пока поворот узкой окраинной улочки не остановил меня. Позади молодой женский голос произнес:
— Ну вот, читай! По-моему, подходяще!.. — Реплика относилась к объявлению на стене какого-то фабричного здания. Невольно и я пробежала его глазами. Объявление было обычное: требовались рабочие. Слово «лес» повторялось в разных вариантах: «лесоповал», «лесозавод», «лесозаготовки»… Где-то в Сибири.
Я прочла невнимательно, механически, просто потому, что услышала это восклицание позади, и посторонилась, чтобы дать возможность прочитать объявление кому-то, кого оно интересовало. Из-за моей спины выдвинулись двое. Две женщины. Собственно, женщиной можно было назвать одну.
Лет сорок. Спокойное круглое лицо, безмятежный гладкий лоб, глаза нелюбопытные, замкнутый рот. Одета хорошо, и лицо ухоженное. Другую можно было принять за ее дочь, если бы они не были такими разными. Все у младшей было в движении: волосы, ничем не покрытые, плясали вокруг маленького личика, на котором читались одновременно разные чувства, но прежде и главнее всего: «А что будет дальше?» Вероятно, ей было лет семнадцать, и я с особой остротой понимала ее энергию и требовательное желание не упустить что-то значительное в жизни, что-то интересное, завидное — не пройти мимо!
Вдруг младшая обратилась ко мне:
— Вы тоже идете записываться? Вы тоже поедете?
«Куда?» — чуть было не спросила я, но тут же поняла значение маленькой сцены.
— Да, — ответила я неожиданно для себя самой, — иду записываться. Поеду.
Девушка обрадовалась, как будто мы были давно знакомы и, по счастливому совпадению обстоятельств оказалось, что мы вместе едем куда-то на край света. Во всяком случае, упомянутая в объявлении станция Таежная — это уже говорило кое-что воображению, бедностью которого девушка, вероятно, не страдала.
Поскольку выяснилось, что мы едем вместе, хотя старшая еще не произнесла ни слова, девушка решила, что наше знакомство следует упрочить, и тут же сказала, что ее зовут Катя. Катя Новикова. А это ее мачеха… Отец был столяром, «мастер первой руки» — она с гордостью произнесла эти слова, видно, подхваченные с чужого голоса. Недавно он умер, а они с мачехой остались одни. И ничего-ничегошеньки делать не умеют. «Ну, почему ничего? По дому все умеем», — с достоинством поправила старшая. Квартира у них казенная, вот-вот переселят неизвестно куда, а работу найти нелегко: таких, как она, с семилеткой, по Москве много ходит… Разве что в дворники, теперь дворники требуются. И все-таки служебную комнатушку дадут. Но ей это неинтересно. И мачеха Ольга Ивановна тоже не одобряет. А поехать на работу, хоть на какую, это да! Там людей ценят. Даже таких, которые ничего не умеют. Научат. Вот здесь сказано…
Пылкая Катина тирада предназначалась не столько мне, сколько Ольге Ивановне, которая все еще молчала.
— Мы и устроимся вместе, да? — продолжала Катя, ища во мне союзника.
— Да, — ответила я на этот раз уверенно, потому что явственно ощутила под ногами еще зыбкую, но все же хоть какую-то почву. И сама внезапность поворота судьбы привлекала меня к этому именно решению.