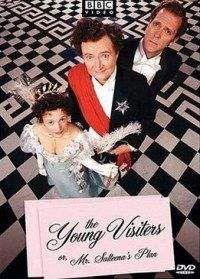разгромил ее мастерскую в поисках ее последней работы? Если автор не может писать, это же плохо для агента, верно? Я имею в виду, она была его самым
важным клиентом.
– Его первым и единственным за долгое время, кажется, – говорю я, вспоминая, как сильно он мне нравился.
– Должно быть, мы что-то упускаем, – качает головой Роуз.
Она поворачивается к Лили, словно надеясь получить ответ. Но Лили все еще смотрит в экран, будто картинка ее загипнотизировала. Пока что там только отображается костер на ночном пляже. Огонь в комнате снова потрескивает и искрится, и я вижу, что поверх дров горит ножка стула. На ней нарисованы белые облака. Я поворачиваюсь к Конору и замечаю на его лице набросок улыбки, прежде чем ее бесповоротно стирает хмурое выражение. Но это ничего не значит. Иногда наши лица не знают, что делать, когда напуганы.
Глядя в экран, я знаю, что многое, случившееся между ужином и костром на пляже, упущено – моменты, которые точно не были засняты, потому что Лили была занята другим. К сожалению, я достаточно хорошо помню ту ночь, чтобы заполнить пробелы.
СИГЛАСС – 1988
– Почему им можно на хэллоуинскую вечеринку, а мне надо оставаться здесь? Мне всегда приходится сидеть дома. Ты никогда не разрешаешь мне ничего, – сказала я своей матери, надеясь, что огромное количество алкоголя, потребленное ею в ту ночь, изменит ее мнение. Спасение алкоголика сделало ее такой же. Хоть она принадлежала к функциональному типажу, который люди не так быстро осуждают.
– Потому что тебе всего тринадцать, – сказала Нэнси, наливая себе еще один бокал вина.
– И что? Ты разрешала Роуз с Лили ходить на вечеринки в моем возрасте.
– Ты знаешь, как и я, что твои сестры не такие…
– Что? Несчастные? Одинокие? Заскучавшие?
Нэнси цыкнула и это так сильно меня разозлило. Это была вредная привычка, в которой она была очень хороша. Цыканье все еще меня раздражает. Иногда моя мать так делала просто сама для себя, когда думала, что одна и никто ее не слышит. Таким был ее ответ на все, что ее нервировало, включая меня. Нэнси вывела меня из комнаты, словно я была позором, который нельзя показывать агенту бабушки.
– Твои сестры не такие хрупкие, – сказала она с уровнем самодовольства, от которого мне захотелось цыкнуть.
– Я не…
– Дейзи, я всю жизнь защищала тебя от мира и приглядывала за тобой… – Это показалось мне смешным. К тому времени моя мать стала женщиной, едва способной приглядывать за собой. После расставания с отцом Конора она казалась меньше, более замкнутой в себе. Лондон был слишком громким для нее, наш крохотный домик – слишком маленьким, потому что там не было двора или сада. Поэтому мы начали проводить в Сиглассе еще больше времени, чем раньше. Нэнси проводила долгие часы в саду со своими драгоценными цветами, потому что только они остались от отца Конора, а ее единственные друзья были разлиты по бутылкам. У нее было еще меньше времени на меня, она презирала жалость и вину, которые я у нее вызывала. – Я никогда не позволю ничему с тобой случиться, – сказала она, держа меня за плечи чуть сильнее, чем нужно. Иногда казалось, будто она хочет, чтобы я вечно оставалась больной и уязвимой.
Жизнь под «защитой» моей матери значила, что у меня особо не было жизни или настоящих друзей. Я не ходила в школу и не пошла в герлскауты, не занималась плаванием, как сестры. Я не проводила время со сверстниками. Даже теперь мне сложно заводить друзей и иногда мне кажется, причина в том, что меня не научили этому. Ни Нэнси, ни бабушка не могли этого сделать, потому что у них самих не было друзей. Друзьями моего детства были Агата Кристи и Стивен Кинг.
Оглядываясь назад, я думаю, что домашнее обучение лишило меня намного большего, чем все полагали. Я понимаю, почему моя мать не видела смысла для меня в изучении алгебры – в этом мы соглашались – но было еще много вещей, которым я не могла научиться из книг. Я не просто упустила большинство школьных уроков. Я так и не выучила многих жизненных.
Я сдалась, прекращая попытки отпроситься. Не было смысла спорить с моей матерью. Нельзя выиграть спор с человеком, отказывающимся в него вступать. Я оставила их и поднялась в свою комнату, злясь, что ко мне относились как к ребенку, хотя я уже себя им не чувствовала. Нэнси даже не разрешала мне читать письма из больницы, хотя они были обо мне. Я вспомнила последнего врача, к которому ходила, и каким веселым и обнадеживающим он был, в отличие от остальных. «Давай, пора проживать свою жизнь», сказал он мне с широкой улыбкой, словно со мной все было хорошо. Жить – единственное, чего мне хотелось, поэтому я не понимала, почему Нэнси все еще настойчиво запирала меня и относилась ко мне как к фарфоровой кукле.
Вскоре после ужина вода отступила достаточно, чтобы Роуз, Лили и Конор могли уйти. Они переоделись в красивые наряды для ежегодной пляжной вечеринки в честь Хэллоуина и, как всегда, я пропускала все веселье. Когда они втроем ходили на местные вечеринки, они обычно согласовывали свои костюмы. В том году они были Львом, Ведьмой и Тыквой. Роуз была львом, Лили была ведьмой – эту роль она знала отлично – а Конор был одет во что-то похожее на оранжевый мешок.
Я сидела на верхней ступеньке лестницы, глядя, как они надевают свои пальто и прощаются. Потом я услышала хлопок входной двери и услышала, что взрослые возвращаются на кухню к своим напиткам. В своей ярости из-за всей этой несправедливости я споткнулась о старую плетеную корзину на площадке, где в нашем детстве хранились разные костюмы для игр с переодеванием. Я раздраженно ее пнула, а затем у меня появилась идея. Я открыла ее, доставая старые самодельные костюмы охотника за привидениями и Гизмо, вместе с ведьмовскими шляпами и париками, но поняла, что этого не хватит, чтобы изменить мою внешность и спрятать лицо. А потом я нашла старую простыню с моего выступления в роли призрака, накинула ее себе на голову, выровняв прорези на уровень глаз, а затем посмотрела в зеркало. Я затолкала простыню в свой рюкзак и разработала план.
Сделав в кровати холмик в форме себя из плюшевых игрушек, я прокралась вниз и выскользнула на улицу. Пробежала по берегу на полной скорости под светом