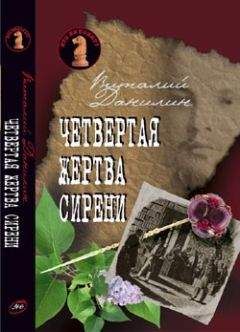И, отвечая на слова, сидящие в памяти, я прошептал:
— Да, конечно, Володя, вы правы… Но как, черт побери, они там оказались? Как? Почему вдруг Го — лован вздумал совершить это четвертое убийство — убийство своего сообщника?
Разумеется, Владимир не мог мне ответить. И не потому, что был далеко отсюда. В Самаре я его тоже спрашивал — безрезультатно…
Я вздохнул и потянулся было к фляге. Но рука моя так и застыла в воздухе. С отчетливой ясностью вспомнил я другие слова Владимира, сказанные им по дороге из Плешановской больницы домой: «Не думаю, что он вступал с ними в противоестественную связь, хотя именно так полагал его сообщникисполнитель…»
Холодный пот выступил у меня на лбу, когда я понял, что таилось за этими словами. Нет-нет, вовсе не то, что Владимир назвал противоестественной связью. Нет… Но — но как ему стало об этом известно?
— Откуда же вы узнали, друг мой Володя? — пробормотал я в растерянности. — Откуда вам стало известно, что полагал и чего не полагал Трофим Четвериков по прозвищу Голован? Почему вы столь уверенно судили об этом?… Словно… — Тут я запнулся, ибо от ужаса, охватившего меня, язык мой прилип к нёбу.
Узнать о том мой друг мог лишь от самого убийцы!
И ни от кого другого.
Я постарался успокоиться, хотя далось мне это нелегко. Мысль о том, что Владимир мог встречаться с Голованом и даже разговаривать с ним, представлялась мне фантастической, но она и объясняла многое в этой темной истории.
Я вскочил с низкой койки, на которой сидел, и заходил взад-вперед по тесному помещению. Мелкие черточки вдруг принялись всплывать в моей памяти и сами собою складываться в связную картину.
Владимир был уверен в том, что единственное событие, способное спасти Аленушку, — это четвертое убийство. Совершенное точь-в-точь по той же методе, по какой были совершены предыдущие три. То есть, оно должно было произойти в понедельник, поздно вечером, ближе к ночи. Место должно было быть связано с книжным магазином. Убийца должен был орудовать шилом. И на месте преступления должна была остаться гроздь сирени.
Я замер столбом. Закрыв глаза и вызвав в памяти обстоятельства того ужасного вечера, я вдруг увидел воочию то, на что тогда не обратил внимания.
После выстрела я замешкался. Проверял, по старой своей привычке, револьвер. И потому бросил лишь короткий взгляд на лежавших. Но зрение у меня острое, и сейчас я готов был поклясться, что в то мгновенье никакого цветка там не было!
Лишь после того как Владимир окликнул меня и я от Пересветова перешел к Головану, появилась эта самая сиреневая веточка.
Сие могло означать только одно: положил ее мой спутник.
Ноги мои ослабли. Я упал на койку и закрыл глаза. Теперь я понял многое — может быть, даже все. Своей целью Владимир поставил освобождение моей дочери. Как он сам мне заявил, поиски убийцы его вовсе не интересовали. Поняв, что у него нет ни малейшей возможности добиться этой цели, иначе как продолжив цепь смертей, не им начатую, он приступил к делу со всей присущей ему решительностью.
Разумеется, найти Голована ему не составило большого труда. В пустующей квартире, из которой батраковец сделал наблюдательный пункт, Владимир нашел кисет с самосадом. О том, что этот кисет оставил именно убийца, я сам поведал ему — в ту ночь, когда гонялся за Голованом с Кольтом в руке. А по кисету да по самосаду он добрался до пересветовского наймита — возможно, через хозяина трактира. Того самого трактира, в котором на нас напали подосланные Пересветовым грабители. Того самого трактира, в окне которого я видел лицо Голована.
Что же Владимир мог сказать этому чудовищу?
— Да что же еще? — прошептал я, обращаясь к самому себе. — Что же еще, как не то, что мне же впоследствии и рассказал? Что Пересветов готов выдать сообщника, свалив на него одного все убийства и изобразив себя жертвою шантажа. Как Владимир это доказал? Да так и доказал — своим присутствием. Мол, от Пересветова обо всем и узнал. И предложил разделаться с предателем…
Именно так все и было! Именно так!.. И это Владимир подсказал Головану место и время встречи.
Ах, как убедительно он чертил тогда передо мною схему, как уверенно соединял остро отточенным карандашом точки на карте Самары — так что четвертою точкой оказывался двор книжного магазина Федорова, место предстоящего, «спасительного» убийства!
Это сейчас я понимал, что от тех трех точек можно было провести линию и к другому месту. Но тогда — тогда! — сколь же убедительной показалась мне эта линия… И я в возбуждении своем, вызванном им, моим… осмелюсь ли теперь сказать — другом? — побежал снаряжать свой револьвер. Лишь об одном я молил тогда небеса — чтобы не сорвался этот план, рискованный, но, как мне казалось, единственно успешный.
Тут я обхватил голову руками и застонал во весь голос — не опасаясь даже того, что вздремнувшая в своей каюте дочь моя услышит меня сквозь тонкую переборку и испугается. Ах ты, Боже мой, ведь он же крикнул мне: «Стреляйте!» И я выстрелил — точно тогда, когда это было необходимо по его плану. Или — по его либретто.
Ни мгновением раньше, ни мгновеньем позже.
И даже удивленный его возглас: «Это не Витренко!» — был, конечно же, искусственным. Ведь к тому моменту Владимир уже прекрасно знал, что чудаковатый Григорий невиновен.
— Он использовал меня!.. — прошептал я. — Да ведь он использовал меня так же, как Пересветов использовал Голована!
Щеки мои пылали от смятения и несказанной обиды, как у мальчишки, которого взрослый походя обманул пустою конфетною оберткою. Я не мог больше сидеть в тесной каюте, мне стало казаться, что стены и низкий потолок валятся на меня. В воспаленном моем мозгу то и дело всплывали и странным образом ломались образы Пересветова и Ульянова. Нисколько они не были похожи друг на друга — высокий представительный инженер-путеец и низкорослый, подвижный до некоторой суетливости, несостоявшийся студент-юрист. Но сейчас, в воображении моем, разогретом тревожными мыслями и парами рябиновки, их черты стали смешиваться. То представлялся мне покойный зять, лоб которого вдруг выпячивался на манер ульяновского и из-под него на меня насмешливо смотрели горящие угольки ульяновских глаз. То, напротив, взгляд Владимира обретал безумный пересветовский оттенок. В конце концов мне стало казаться, что оба эти господина, непостижимым образом сросшиеся в моей памяти, выглядывают из висевшего на двери каюты зеркала на манер двуликого Януса. Я был близок к тому, чтобы расколотить ничем не виноватое стекло — подобно тому, как это в свое время, по словам Владимира, сделал Пересветов.
Я задыхался, глаза мои слезились — словно каюту наполнил едкий дым. И вот в таком состоянии, близком к умственному расстройству, я выбежал в коридор, а оттуда на палубу. Не знаю, что именно искал я там. Впоследствии мне казалось, что я мог просто выброситься за борт — если бы воображение мое не угомонилось.
Но прохладный ветер, охладив разгоряченный лоб, и мысли мои привел в порядок. Стоя у борта на верхней палубе парохода «Фельдмаршал Суворов», я вновь думал о пережитом, стараясь не поддаваться ни негодованию, ни страху. Я рассуждал вслух, обращаясь к самому себе и пытаясь самого себя успокоить. Я понимал, что ежели не найду оправдания для предосудительного и жестокого поведения того, кого совсем еще недавно считал благодетелем, то просто не смогу жить прежней размеренной жизнью.
— Хорошо, — сказал я. — Предположим, что все было именно так. Предположим, что четвертое убийство подстроил господин Ульянов. Но разве он не раскрыл предыдущие? Раскрыл, конечно же, раскрыл. Никаких сомнений нет в том, что трех молодых людей убили эти два злодея: Пересветов, обуреваемый безумными страстями, и Голован, готовый за деньги хладнокровно всадить смертельное жало в сердце невинного существа. Пересветов сам признался в том перед смертью, и я тому свидетель. Разве не их жертвою пал судебный пристав Ивлев — по одной лишь причине сходства со мною? И разве не хотели они убить меня, а мою драгоценную дочь упечь на каторгу, дабы скрыть свои кровавые дела? Нет-нет, уговаривал я самого себя, эти злодеи заслужили конец, во сто крат более ужасный. И я нисколько не скорблю ни о Головане, сраженном моей пулей, ни о Пересветове, кого то ли раскаяние, то ли страх перед разоблачением вынудили свершить суд над самим собою…
Я покачал головою. Нет, нисколько не вызывали они у меня жалости.
Что же в таком случае меня гнетет? Что за червь точит меня сейчас, не останавливаясь и не внимая доводам рассудка? Почему я думаю о молодом человеке, выступившем добрым гением моей дочери, с таким страхом, что сердце мое сжимается?
Неужели меня сверлит лишь мысль о том, что в самом конце этой запутанной истории я выступил послушным орудием чужого разума?