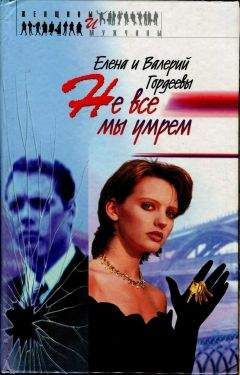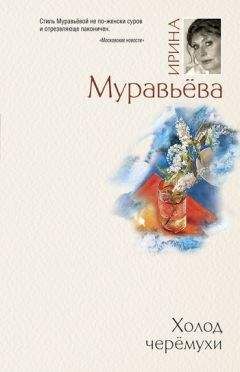— Персидская кухня, — проинформировала Евгения. — Бадымджан долмасы. Голубцы из синеньких, перца и помидоров.
Герман вопросительно поднял на нее глаза от своей тарелки.
— Нет, в Иране я не была. Соседка-армянка научила.
— Армянка? А это что? — Антон взял соусницу со сметаной, в которой виднелись маленькие желтовато-беловатые крошки. Недоверчиво понюхал.
— Чеснок, растертый с солью, а затем залитый сметаной, — объяснила она Антону. — Чтобы не было запаха, ешьте петрушку. — И Герману: — Эта армянка была писательницей. Даже членом Союза. До бакинских событий жила в Азербайджане. И неплохо жила, по ее же словам. В основном переводила с азербайджанского на русский вирши местных литераторов. И сама иногда пописывала и издавалась. В общем, не бедствовала. В Азербайджане образованные армяне и евреи чувствовали себя достаточно комфортно, в отличие от русских. Мне кажется, вы понимаете почему.
Герман только кивнул, отправляя в рот политый сметанным соусом фаршированный помидор.
А вот Антон не понимал и чистосердечно признался в этом:
— А почему?
«Ага! Герман у них — главный, а Антон — в подручных», — подумала Евгения, а вслух спросила:
— Вы в России родились? Или в национальной республике?
«Все ясно: операция называется — заход с тыла», — подумал Герман.
Антон открыл было рот, но ничего не ответил, лишь часто-часто заморгал длиннющими ресницами, тоже белесыми, словно обесцвеченными перекисью водорода.
«Милый, милый, белобрысый Антон Алексеевич! — запела про себя Евгения. — Чистосердечное признание, безусловно, облегчило бы вашу душу, но вы не признались вслух, промолчали, однако можно признаваться и не признаваясь; и в этом смысле вы признались, что родились не в России, и даже не в национальной республике, иначе вы без труда бы назвали ее, милый, милый Антон Алексеевич». — Тут песня кончилась, поскольку все для себя она уже определила.
Герман следил за Евгенией Юрьевной с удовлетворением; его веселило умение леди извлекать информацию из всего и любым способом; скажет фразу или слово, бросит короткий взгляд на собеседника, чтобы поймать его реакцию (нет реакции — тоже реакция), — и ответ получен.
— Конечно, русскому человеку, родившемуся в метрополии, понять проблемы соотечественников на окраинах трудно, — невинно продолжала Евгения. — Если в двух словах…
Что хотелось узнать леди, Герман догадался сразу, как только она спросила, где Антон родился. Антон промолчал — ответ получен: из набора спецслужб она выбрала те, которые работают не здесь, а там.
Евгения перехватила взгляд Германа, но опять переключилась на Антона:
— Так вот, если вернуться к писательнице-армянке, то она удрала из Баку в девяностом году, обозвав всех азербайджанцев пастухами. Приехав в Москву, стала кричать: русские тоже сволочи, из-за них армян бьют! Почему? Потому что русские ввели войска не тогда, когда ей хотелось, и не туда, куда надо. Надо было Нагорный Карабах отрезать от Азербайджана и благородно отдать бедным армянам. У них, кроме розового туфа, ничего нет. А заодно отнять у турок Арарат вместе с ковчегом Ноя. Тогда у них все будет. А поскольку русские этого не сделали, то они просто сволочи и рабы. И грозилась, что сама поедет в Нагорный Карабах увеличивать там народонаселение. И правда, поехала, но быстро вернулась, оправдываясь тем, что ее там никто не понимает и вообще там одни пастухи. Так и живет в Москве в коммуналке у сына. До сих пор недовольна. Негодует, даже когда готовит. Но готовит божественно, как и азербайджанцы, между прочим. На тех и других сказывается пребывание в персидской империи. Впрочем, как и в российской. А вы как думаете? Ваше мнение?
Антон ничего не думал, вернее, думал о том, что неплохо бы ужин повторить. А Герман думал — Евгению Юрьевну близко к Антону подпускать нельзя: она его в качестве закуски съест и не поперхнется. Поэтому он ответил за него:
— Тут, Евгения Юрьевна, я разделяю мнение Канта: сознавать многообразное как одновременно существующее или последовательное — это зависит от обстоятельств или эмпирических условий.
Евгения поперхнулась.
— Ничья, — провозгласил Антон, направляясь к плите за добавкой. — Лучше расскажи ей, как мы все устроили.
— Зачем рассказывать? — Герман посмотрел на часы и включил маленький телевизор на холодильнике: — Пожалуйста. Мы можем даже посмотреть.
Шла криминальная хроника недели. Знакомое изображение: машина, Мокрухтин, Болотова, доллары…
Герман хмурился. Если, удрав от него в парке, она поехала передавать пленку корреспонденту, значит, она засветилась. Поэтому, глядя на экран, он сокрушенно качал головой. Евгения жест поняла и поспешила оправдаться:
— Герман Генрихович, это вы напрасно. Корреспондент меня не видел, о моем существовании не знает, дискету он взял на могиле Мокрухтиной, звонила не я, звонивший меня тоже не знает, как не знает куда и кому звонил.
— Сдаюсь! — поднял вверх руки Герман.
А Михаил Анатольевич лежал в это время с Зинаидой Ивановной в постели и тоже смотрел криминальную хронику.
— Сколько веревочке ни виться, а конец будет, — злорадно цедил он сквозь зубы. — Смерть вырвала из наших рядов…
Он представлял себе, как Калмыков, бледный от страха, мчится сейчас в межрайонную прокуратуру, чтобы сорвать со стены траурную оду на смерть товарища Болотовой, и к утру, когда коллеги придут на работу, их будет ждать уже другой плакат: Фемида с завязанными глазами показывает пальцем на каждого входящего и строго вопрошает:
— ТЫ! Что сделал ТЫ для родной прокуратуры, чтобы в наши честные ряды не затесался ВРАГ?
«Это будет сильно, — думал Калмыков, действительно несясь на всех парах на работу. — Это будет современно! В духе кампании по борьбе с коррупцией. ТАМ должны оценить».
Зинаида Ивановна от счастья плакала и тоже думала о том, что Бог есть! Убрал же он Мокрухтина! Убрал же он Болотову! Мало того что убрал: он даже опозорил их на всю страну. Значит, Бог есть!
Если б Евгения Юрьевна могла проникать в мысли и чувства Зинаиды Ивановны, она бы и вправду почувствовала себя Богом. Ведь если люди в тебе так нуждаются, от этого может и крыша поехать, не так ли? Тут философия не нужна. И Кант не нужен. А он-то, бедный, старался, работу писал: «Единственно возможное основание для доказательства бытия Бога». Наивно считал, что, кроме приведенных им аргументов, никакие другие доказательства невозможны. Кант был не прав.
А сюжет между тем сменился. В березовой рощице неподалеку от окружной автомобильной дороги в направлении Мытищ Михаил Анатольевич увидел обгоревший корпус «Оки», отчего напрягся, а сердце вдруг гулко забилось в груди. Камера оператора показала лужу крови на водительском сиденье и медленной панорамой остановилась на номере. Михаил Анатольевич вскрикнул: это была машина его жены. Сразу за ней стояла другая сгоревшая машина: кажется, «Москвич».
Михаил Анатольевич почувствовал, что ему не хватает воздуха. Он пытается вздохнуть, а грудь его не слушается. Стал хвататься за Зинаиду Ивановну, как утопающий за соломинку. Женщина страшно перепугалась и стала хвататься за него:
— Мишенька, что с тобой? Что с тобой?
Он показал на сердце. Зинаида Ивановна метнулась к аптечке, вытрясла на ладонь валидол.
— На! На! Под язык! — Пальцем она засовывала таблетку ему в посиневшие губы. Михаил Анатольевич, не отрываясь, продолжал смотреть.
Корреспондент Володя опрашивал свидетелей. Какая-то бабка говорила, часто вытирая платочком губы:
— Милок! Значится, так. Энти приехали вон оттуда, — кивнула она на Москву, — а убивцы — из энтого лесочка. Энти, значится, остановились, а те выскочили и их раз! Раз! Раз! — и порешили. — Бабка показала, как строчили из автомата. — Как, понимаешь, чеченцы.
Камера оператора переместилась на кузова обгоревших машин, изрешеченных пулями.
Михаил Анатольевич еле прошептал:
— Зина, еще таблетку…
Та сунула ему еще валидол под язык:
— Мишенька, что случилось?
— Женьку убили… Мою жену.
Зинаида Ивановна вскрикнула, но в голове ее тут же молнией пронеслась спасительная мысль: «Он теперь мой!»
Как, впрочем, и в голове Михаила Анатольевича: «Все разрешилось само собой. И ничего объяснять не надо!»
Точнее, это была не мысль, это было ощущение того, что сердце вдруг отпустило. Но зато в голове застучали молоточки: «На что — теперь — твоя — семья — будет — жить? Ведь даже на бензин не хватит».
А бабка с экрана с воодушевлением рассказывала:
— И как только они их порешили, зараз вытащили и побросали себе в машину. И — вжик! — и нету!
— А преступников видели? — спросил корреспондент.
— Да как тебя! — показала в камеру бабка. — Мужики — вот такие! — развела она в стороны руки. — И в масках. Как негры!