Но на этот раз, этой ночью, химия дает сбой, паровоз не трогается. Через проход я могу разглядеть ухмыляющийся профиль Калеба, который завидно твердой рукой что-то строчит в блокноте. Но я вжата в свое кресло, невозмутимая, замечающая шелест каждой программки, каждое шуршание фантика от конфет, каждую вибрацию мобильника. Речь превращается в бессмыслицу в моих ушах.
Так что вместо этого я сосредотачиваюсь на образах, на Жюстин в роли Гермионы, в персиковом платье с глубоким вырезом и c подушкой, имитирующей живот, настолько большой, что она выглядит примерно на одиннадцатом месяце, строящей глазки королю Богемии. Я вижу блеск ее волос и выпуклость ее груди, когда она, смеясь, срывает очередную виноградину с грозди, которую держит. Но это не королева. Это Жюстин.
Внезапно все встает на свои места. Начинается мучительный акт мимезиса, поднимающий меня с моего места на сцену. И вот это я, лежу, уткнувшись животом в эти подушки, позволяя спелому фрукту лопаться между моими острыми белыми зубами. За исключением того времени, когда я сама была актрисой, никакие объятия никогда не держали меня так крепко, ни один захватывающий дух акт любви не позволял моему телу так сливаться с телом другого человека. Я могу чувствовать то, что чувствует она, видеть то, что видит она, повторять ее реплики, когда она их произносит. Я больше не я. Я и есть этот персонаж.
Наступает третий акт, сцена суда, когда Гермиону, теперь одетую в лохмотья, обвиняют в супружеской неверности. Гермиона говорит – мягко, нежничая – «Скажи мне, какие благословения у меня есть здесь, живой, что я должна бояться умереть?» Я шепчу эти слова вместе с ней, и эта фраза поражает меня с такой силой, что слезы – жгучие, непрошеные – текут по моим щекам, каждая капля – темное зеркало тех, что пачкают щеки Гермионы.
Затем входит посыльный с известием, что сын королевы мертв. Гермиона резко встает, затем падает в обморок. Что-то в том, как ее тело падает, не похоже на потерю сознания. Это похоже на смерть. Мою смерть. Я беспомощно вскакиваю со своего места, но ноги у меня подкашиваются. В аудитории становится еще темнее, а затем сгущается полночь, когда я валюсь к сумкам и программкам, лежащим на полу.
* * *
В зале есть врач. Так получилось, что даже несколько. Педиатр осматривает меня (видимо, слишком молодо выгляжу), и после того, как я объясняю свой синдром, она проверяет мой пульс и провожает меня до такси. А конфетку не дает. Пока машина едет на северо-восток, я слышу жужжание в сумочке и открываю экран, чтобы получить сообщение от Жюстин, настолько полное ругательств, что даже у приложения хватает приличия выглядеть смущенным. Я позволяю экрану снова погаснуть, а затем закрываю глаза, копя силы для выхода из машины и подъема по лестнице.
Дома, в постели, я просыпаюсь и дремлю, просыпаюсь и дремлю до тех пор, пока в мою дверь не грохочет канонада или, возможно, таран поменьше, гремя замками и петлями. Я спотыкаюсь о кровать и морщусь.
Приподнимая рубашку, я обнаруживаю мозаику зеленых и желтых синяков, расползшихся по ребрам, как будто я пытаюсь замаскировать себя изнутри.
В глазке я вижу взведенного Роджера. Я открываю замки и приглашаю его внутрь. Его глаза обшаривают разбросанное нижнее белье, пивные бутылки, рассыпанную стопку афиш. Во рту у меня пересохло, почти пустыня, но я прикусываю язык – старый актерский трюк, – пока влага не возвращается обратно и я не смогу говорить.
– Прости меня, – хриплю я после сна. – Мы с моим декоратором подрались насмерть.
– Ну же, Вив, – тихо говорит Роджер. Он снял с головы хомбург и месит его, как войлочное тесто. – Теперь без шуток. Ходят слухи, что ты ходила на «Зимнюю сказку» прошлой ночью. Калеб сказал, что у тебя случился какой-то приступ. Что им пришлось остановить спектакль. Это правда?
– Ничего такого драматичного. У меня синдром нейропатической постуральной тахикардии. Это длинный способ сказать по-латыни, что я падаю в обморок, когда встаю слишком быстро. Такое случается нечасто, но случается. Не волнуйся. Это в принципе безвредно, пока я ни обо что не ударюсь при падении. Если не считать нескольких ушибов, сейчас я в порядке.
Он изучает мое лицо.
– Их больше, чем несколько, малыш. И вообще, почему это случилось прошлой ночью? Посреди спектакля?
– В нем участвовала моя лучшая подруга. Она изобразила очень убедительный обморок со смертельным исходом, напугала меня. Что я сейчас нахожу очень неловким. И я ценю твое беспокойство, но ты мог просто написать мне на электронную почту.
– Я так и сделал.
– Точно, мой ноутбук сдох. Надо озадачиться его починкой. Что ж, тогда просто позвонил бы.
– О, знаешь что? Я и это сделал.
Мой взгляд устремляется к телефону, который я забыла поставить на зарядку прошлой ночью. Тоже мертв.
– Вив, – продолжает Роджер, – что с тобой происходит? На Рождество ты выглядела не в форме. Ты довольно много выпивала. Ладно, я тоже. Но ты почти ничего не ела. И посмотри на это. – Он неопределенным жестом обвел студию. – Посмотри на себя. Ты хотя бы знаешь, какой сегодня день?
– Конечно. Среда.
Он качает головой.
– То есть четверг, – говорю я, ставя свой телефон на зарядку. – Жирный вторник. Худая пятница. И теперь, когда мы разобрались с нашим общим календарем, спасибо, что заглянул, но я действительно должна…
Он останавливает меня повелительным взмахом руки:
– Вив, посмотри на себя. Я серьезно. – Он кладет руку мне на плечо, почти ведя меня в ванную с зеркальным шкафчиком для лекарств. Я пытаюсь отвернуться, но он мне не позволяет. И я смотрю.
Один глаз кажется сильно налитым кровью, другой распух и покраснел ниже пореза. На щеке под ним ссадины, а в уголке губы – ранка. Мои ключицы слишком сильно выступают над воротником футболки, и кожа, на которой нет синяков или покраснений, выглядит неестественно бледной. Я делаю вдох, натягиваю на лицо улыбку и ловлю его взгляд в зеркале.
– Так ты хочешь сказать, что дни моего пинапа закончились?
– Я говорю, что тебе нужна помощь, малыш. Ты слишком много пьешь. Сегодня у меня был разговор с отделом кадров, и оказалось, что корпоративный план медицинского обслуживания на самом деле довольно щедрый, когда дело доходит до такого рода вещей. Хватит на пару недель в лечебнице. Мы с Шерил можем оплатить остальное, если понадобится.
– Вы так добры, – говорю я. Я не вернусь в лечебницу. Ни ради Роджера. Ни ради кого-либо другого. А выпивка? Учитывая мои проблемы, она едва


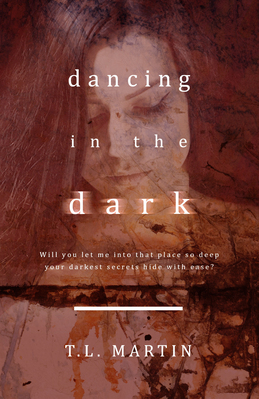


![Владимир Набоков - Смех в темноте [Laughter In The Dark]](https://cdn.my-library.info/books/137611/137611.jpg)