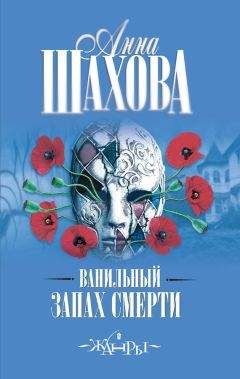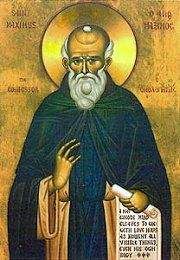Через полтора часа Юлия Шатова лежала в реанимации эм-ской районной больницы. Состояние ее оценивалось как тяжелое.
В то время когда в приемный покой ввозили каталку с пострадавшей, из больничных ворот выходил, прихрамывая и держась за правый бок, старичок бомжеватого вида с сумкой-тележкой, которая, погромыхивая, волоклась за ним. К груди дед прижимал объемистый сверток, тщательно замотанный бечевкой. Когда бомжа, приползшего в лечебницу неделю назад с неимоверными болями в боку и пояснице, увозили на срочную операцию по удалению желчного пузыря, он рыдал и чуть не дрался – не хотел отдавать пакет. Только когда сестра заорала, что им тут «дерьма помойного не надо» и все барахло будет дожидаться Семена Ямщикова, 1946 года рождения, регистрации не имеющего, в отдельном шкафчике, больной успокоился и отдал бесценную свою поклажу. Приходя в себя после операции, лежа в шумном и навязчиво светлом больничном коридоре (в палате бомжу места не нашлось), Семен молчал, плакал, думал и молился. И вспоминал… Бродяжничал давно. Как с зоны пятнадцать лет назад вышел. Сидел по глупости – приемник вытащил из машины незапертой. И что его тогда дернуло? Денег, конечно, не хватало. Да что там! Не было совсем. Как, впрочем, и жилья. Его оборонный завод в девяносто втором закрыли, вернее, стали на нем какие-то кастрюли клепать. Но кастрюль требовалось значительно меньше, чем когда-то ракет, и потому большинство рабочих уволили, выдав отступные теми же кастрюлями. Жена их год распродать не могла! А потом не стало ни жены, ни денег, ни квартиры – не с новым же хахалем бывшей супруги в однушке жаться? Словом, отсидел, вышел и прибился к храму сторожем. Но попивал. За то его настоятель, мужик свирепый, и выгнал. Так и стал «очарованным странником»: по обителям ходил, побирался, а где и работал, если в охотку. А потом Семен пришел на православную выставку и прикипел к ней. Уж больно подавали хорошо: народу подчас текло видимо-невидимо. Даже комнату смог снимать неподалеку. Словом, устроился, наконец. Но лукавый не дремлет, искушение не заставило себя долго ждать.
Семен чаевничал в тот день в палатке Горы и Стасика, которые доверяли Динамику и даже наладили с ним деловые отношения. Размножали на своем компьютере редкие записи монастырских песнопений, которые хранил Сенька, и продавали по сто рублей. Двадцатку с диска платили бомжу. К разговорам монахов Семен обычно не прислушивался: разрешают погреться, чаю нальют, и слава Богу. А их коммерческие иконные дела – не его «динамиковское» дело. Но тут случай выпадал особый. Попы всерьез говорили о грядущих миллионах и даже, хихикая, выбирали, в какую страну поедут отдыхать. Стасик стоял за православную Грецию, а Гора за экзотический Таиланд, где, тьфу-ты, по Сенькиным понятиям, грязь одна. Потом они достали карту автодорог и прикидывали, как лучше ехать до «Приюта Веры» и сколько времени это займет. Семен, проявив доброжелательную заинтересованность, спросил, что за выгодное предприятие намечается.
– Э-э, дорогуша, Спаситель нам помогает, – закартавил Стасик, а Гора заржал, как всегда, грубо, по-лошадиному: – Что в серебряном окладе…
И понял Сенька, что особую, видать, икону собираются эти липовые алчные монашки то ли украсть, то ли купить. Тащил бродяга свою грязную тележку по выставочному проходу и вскипал от обиды и зависти: «Почему они на Божьем имени себе тут кормушку устроили, не боясь кары небесной, а я, рабочий человек, потерявший все по прихоти власти – бездарной и такой же лживой, как эти длиннорясые извращенцы, должен гнить в вони, на морозе, без своего угла и куска хлеба!» Расплакался Семен. Уселся на ступеньки лестницы, а тут к нему с жалостью и подошла сердобольная Олька-косая. Так дело и решилось. Грязное дело. Вон как Господь поучил: чуть не помер Динамик. И что характерно: ни почки, ни сердце не прихватило, а именно желчь разлилась, будто заполонившая его нутро зависть, злоба, алчность. Разве мог Семен знать, что приступ острого холецистита спас ему жизнь? Вот уж воистину – «…без Божьей воли и волос с головы не упадет» (Лк.12:7).
К выписке, с которой подобный Ямщикову «контингент» в лечебных учреждениях поторапливают, он все уже решил и, выйдя за серые металлические ворота, направился, изредка присаживаясь и хватаясь за пластырь на боку, к единственно возможному для него пристанищу.
«Неужели все снова получилось?!» Арина не могла поверить, что летит в самолете к солнцу, заходящему только для того, чтоб освежиться в море и вновь жарить почти без передыху: триста дней в году. Летит к новым, другого сорта людям, для которых можно стать наконец собой – доброй, смешливой, щедрой. Летит к радости, которую она вдруг почувствовала, вспоминая беспомощного, но любящего Григория. Слава Богу, боль и смерть оставались в том, жутком мире. И ужас выживания сброшен с высоты десяти тысяч метров. Арина ничуть (ничуть! ничуть!) не раскаивалась в убийствах: так уж сложилась у бедных недотеп судьба. «Если б не они, то я», – думала Врежко.
«А ведь это совершенно невозможно! Так долго выстраивать и лелеять будущее, чтоб сдаться, бросить все на полдороге? Нет, нет…Только…» – Арина потыкала языком в язву на внутренней стороне щеки, которую, видно, сильно прикусила ночью. Неужели припадок во сне? И эта слабость, дрожание в руках, ломота в затылке, и… ничего. Никаких воспоминаний. В последние три года, после курса гипноза, припадки случались совсем редко. И не такие сильные, как в детстве, подчас едва заметные: накатывал навязчивый запах, предметы плыли вкривь, вспышка, короткая потеря сознания, иногда даже незаметная для окружающих: Арина замолкала на полуслове, столбенела, а потом приходила в себя. Головная боль, слабость, тремор. И никаких воспоминаний. Она всегда имела с собой расслабляющее средство, которое помогало избежать приступа. Арина предусмотрительно не сдала в багаж тюбик-клизмочку с мазью-спасительницей, которая действовала через две-три минуты.
– Обед. Пожалуйста, обед. Курица, мясо? – к Арине подкатила тележку аккуратная, вышколенная девочка-стюардесса.
– Спасибо, нет. Чаю.
– Чуть позже.
– Да, конечно.
Запах от лотка, который раскрыл этот толстый мальчишка, летевший с такой же свиноподобной матерью, был отвратителен. Все воняло газом. «Почему газом? Зачем? Греют ведь в электропечке. Газ. И кресло… влево. Да оно отъехало! И я… моя нога – что с ней? Колено раздуто, дует. Его дует…» Арина в панике дернула замок сумочки – благо, тюбик наверху. «Теперь встать: спокойно, без нервов, туалет впереди, далеко. Тот, что сзади – ближе, но путь преграждает тележка стюардессы. Что ж, значит, вперед. Ничего…»
Пот заливал спину. Ноги отказывались подчиняться: такая вязкая, мучительная походка подчас снилась ей. Арина не могла дойти до необходимого предмета, который оказывался при ближайшем рассмотрении никчемной ерундой – шкуркой апельсина или скомканной наволочкой. Врежко добралась, держась за кресла, до спасительной кабинки. Стюард, встретившийся у туалета, попытался что-то участливо спросить. Арина отмахнулась: грубо, не имея сил быть вежливой. Скорее! Задвижка сработала со второго раза, как же все долго. Сейчас, сейчас плоть почувствует лекарство и наступит долгожданное расслабление. И можно будет, отсидевшись пять минут, умывшись, выйти и жить дальше. Расстегнув джинсы, она уже откручивала непослушную крышку на колпачке трясущимися руками, и тут… вспышка! И смеющееся, круглоглазое лицо дурочки Татьяны Красновой в платке просипело, уплывая вбок, к зеркалу, – Ари-и-и… Припадок кинул женщину вперед, в стену. Ее гибкое тело забила мелкая судорога, глаза закатились, язык запал, не пуская в глотку слюну, пенящуюся у губ, и Врежко, согнувшись пополам, зажатая крошечным пространством кабинки, заколотилась совершенным, выпестованным лицом о металл раковины, а потом рухнула затылком на смертоносное, выпачканное туалетное седалище.
Григорий Репьев ждал Арину в отеле, в пригороде Мадрида. Он получил от нее утром на резервный телефон СМС с номером рейса и часом прибытия, но встречать любимую побоялся. Трусливый Репьев считал себя человеком осторожным и предусмотрительным. Он прекрасно понимал, что уже находится в международном розыске. В номере, по которому он прошагал уже не один километр, сидеть не представлялось никакой возможности. Григорий спустился в бар, заказал коньяку. Он старался сдерживаться, не пить. Но сейчас, в радостном и жутком предвкушении встречи, не мог справиться с собой. Бармены, два тощих маленьких испанца, внешне ничуть не отличающиеся, на взгляд Репьева, от «наших» азербайджанцев или дагестанцев, раскатисто перекрикивались. Один копался в кассе, другой расставлял чистые стаканы. Их крик перебивал работающий телевизор. Красивая блондинка, посверкивая акульими зубами, истошно лопотала. Видно, речь шла о кризисе. На экране мелькали цифры, значки евро и доллара, показывались какие-то протестующие толпы.