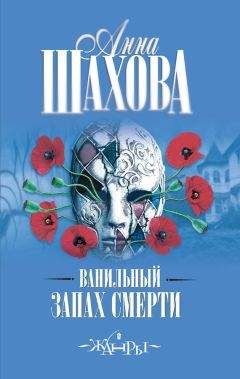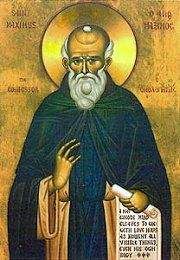Игумен Вассиан встал, шагнул к Алевтине, положил руку ей на голову, что-то зашептал. Женщина утихла. Светлана и Сергей в оцепенении наблюдали за метаморфозами, происходившими с этой несчастной, странной женщиной. Придя в себя, Дрогина, как ни в чем не бывало, продолжила свой спокойный и жуткий рассказ.
– Сама-то Милочка в матери уже не нуждалась. Поздно, говорит, кукушка опомнилась. Все так… все так… поздно. Она операции стала делать на лице. Замуж вышла. А я обуза, никчемушная баба… К Богу поближе подалась. В монастырь. Куда ж еще? Квартиру продала, все деньги Милуше. И иконы старые, особые, что Псой дарил. С этого ее бизнес и начался. Жалко, батюшку уж после встретила. И тогда только поняла, что такие, как Псой, – исключение.
Алевтина схватила руку игумена, прижала ее к глазам, стала горячо целовать. Вассиан руки не отнимал. Алевтина вдруг резко поднялась:
– Ну, все! Все!!! Подробности со стаканом, сейфом, мешками – все потом. Вся эта грязь, бесовщина… Не могла я Миле отказать! Тогда казалось, что не могла. Деньги на икону редчайшую ей нужны были, чтобы глотку заткнуть оценщику. Он угрожал, что икона уникальная, из музея Новгородского украдена – не продашь так просто, дело уголовное. Но сестру Калистрату убивать не думала! Нет! Дозу мне Мила неправильно сказала, клофелинщица бесноватая. И «скорую» задержала. Но грех на мне. Давит… Воздуха нет, как давит… А сейчас устала… Поехали! – Алевтина стремительно пошла к дверям. Быстров вышел за ней.
Светка, стоя перед растерянным, сокрушенным игуменом, спросила:
– Вы можете отчитывать? Вы экзорцист?!
– Да нет, – резко отмахнулся монах. – Я не благословлен и не по силе мне такое. Здесь сложная грань: психически больные и одержимые. И тут я не судья. А Алевтина доверяет мне. Любит… И я молюсь за нее, как могу. А могу-то мало. Да ничего я не могу! – лицо отца Вассиана задрожало, и монах отвернулся, подошел к иконостасу.
В эту минуту в комнату вернулся Быстров. Он казался неестественно напряженным. Мялся, не мог поднять глаза на игумена, и Светка поняла, что у Сергея есть какой-то очень важный, мучающий его вопрос. Она вышла из дома, поклонившись батюшке. Отец Вассиан пронзительно посмотрел на Быстрова. А Сергей все тянул, облизывал губы, будто пробуя нужные слова на вкус. Наконец спросил. Про Кольку-самоубийцу, который не давал ему покоя. Про грех и покаяние. Про суд и воздаяние. Про все, с чем не мог никак разобраться, чему противился, с чем не мог примириться.
И вдруг Вассиан улыбнулся – голубые, по-детски простодушные заплаканные глаза его будто окатили теплой волной Быстрова.
– Вы молитву «Отче наш» слышали, знаете? Это наше обращение к Отцу. И вот представьте своего отца. Он вас изо дня в день судит или все же любит?
Быстров, будто первоклашка у доски, потупился, а потом вспомнил и неожиданно для себя выкрикнул:
– Мой отец очень любил меня! Он вырастил меня один…
– Так вот Отец небесный любит вас в тысячу раз больше! Он ми-ло-серд. Это главное. Милосерд! Ведь чего мы ждем от веры? Почему плачем перед иконами и мчимся к старцам, как вон к Савелию толпы рвутся? ПРИЯТИЯ жаждем, а не суда, невзирая на то, что творим и чем являемся. И про эту любовь отцовскую не нужно рассуждать. В нее нужно просто поверить. И Кольку-мученика вашего Он любит так, как вы и представить не можете. Счастлив ваш Колька у Господа. Знайте твердо, и не мучьтесь этим.
Вассиан сел у стола ссутулившись, опустив буйно заросшую голову.
– Спасибо, батюшка, – выдохнул Быстров, смущенно заморгав. Его горло будто перехватило острой тесьмой, и он стремительно вышел от игумена на яркое, жизнетворящее весеннее солнце. Также ярко, покойно, ново было и на душе Сергея.
Дорофеич сцепился с этим бродягой, который посягал на вверенную ему территорию, аки цепной ревнивый пес. Ишь, навострился – с телегой и с какими-то тюками прямо в ворота лезет…
– Тута не ночлежка тебе, там-та. Женский, паря, монастырь – для твоего роду ход закрытый, там-та. У сестер ваще траур по убиенным – не кормят паломников и не принимают, там-та. Тем бо всякою голодрань, еще не хлеще! Там-та.
– Да мне, мил человек, только иконы передать. В дар. Обители.
– Хлама не нада нам! Сами пишем образа! Еще жучка или плесень притащишь, там-та. А нам к святости не фартово такое дело, там-та.
– Ну, просто пакет передай – и все! Трудно, что ль? – У Сеньки Динамика гноился шов, от слабости он обливался потом, валился с ног и пить хотел нестерпимо, а тут еще этот, безглазый – ну чисто пес! Даже зло стало брать, и мысли гневливые зашевелились: «Не пускает Господь в обитель – и не надо! Загоню, вон, в Москве икону «Спаса», знакомому попу по сходной цене. Пусть все вернется на круги своя – раз не принимает Бог покаяния…»
Но в самый драматический момент стычки к воротам, на шум, подошла послушница Елена:
– Ты что, Дорофеич, так орешь? Матушка еще услышит.
– Да вот ходют, сестричка, всякие обглодыши, хлам несут. Объясняю, нам без надобности, там-та.
Елена посмотрела на бледного измученного мужичка с взъерошенной бородой, слипшимися седыми волосами и несчастными – в форме домика – глазами, в которых стояли слезы.
– Пойдемте, батюшка, поедите. Вы голодны? – Елена протянула руку к свертку мужичка. Тот передал ношу этой высокой монашке с добрым простым лицом и заплакал. Дорофеич махнул рукой и скрылся, шибко рассерженный, в своей каморке.
В паломнической трапезной Сенька первым делом развязал бечевку и достал из бумажных многослойных пут образ Спаса Вседержителя в серебряном, почерневшем окладе. Лик Христа казался не строгим и отстраненнным, как на более поздних, привычных для верующих образах, а теплым, с живым, участливым взглядом. Елена, ставя тарелку с лапшой перед бродягой, замерла, увидев необыкновенного Спаса.
– Я, сестра, икону эту старинную – бесценную, как говорят знатоки, подарить хочу вашему монастырю. – Старик в бессилии облокотился на стол, закрыв глаза.
– Спаси Господи! – воскликнула послушница. – У нас ведь храм во Имя Спаса Вседержителя! Это, видно, по молитвам почивших сестер нам в утешение Господь вас прислал. Сейчас, батюшка, вы кушайте, не стесняйтесь, и компот вон на краю стола в графине пейте, а я за благочинной. А какого ж века икона, известно?
– Ох, матушка, верь-не верь – одиннадцатого.
– А-ах! – только и смогла произнести, всплеснув руками, Елена, убегая из трапезной.
Через некоторое время вокруг Спаса собрались взволнованные монашки: Елена, Капитолина, Нина, Мария и Зоя – как главный специалист по иконописи. Она, сдвинув очки на лоб, почти вплотную прикладывала образ к глазам, напряженно таращилась, будто хотела что-то разглядеть под слоящейся краской. Наконец, аккуратно положив икону на стол, покачала в недоумении головой:
– Как же она могла так сохраниться замечательно в обычных условиях? В тепле, перепадах влажности? Просто не верится. Это или чудо, или… более позднее письмо. Даже не знаю, что и сказать.
Мать Нина, помнившая, что следствие очень настойчиво интересовалось старинными иконами, строго приступила к Семену – расслабленному и сытому, сидящему на лавке.
– Вы, Семен, расскажите нам, как есть – откуда икона?
Динамик завозился, закряхтел, попытался встать, потом вроде сел половчее и махнул обреченно рукой:
– Как ни путай, а Божья воля распутает. Вор я! Последний вор, матушки. Завтра на исповедь пойду – каяться в преступлении. У вас тут неподалеку приют есть. Для таких вот потерянных, как я. Вот там и украл.
– У Жарова? В «Приюте Веры»? – мать Нина сверлила взглядом прячущего глаза Семена. Потом, переглянувшись с Капитолиной, решительно достала из кармана подрясника телефон, чтобы позвонить Сергею Георгиевичу Быстрову.
Три дня спустя у ворот шатовской дачи собралась группка «провожатых»: дядя Вова, тетя Рая, Полина и местные, затеявшие ленивую возню, собаки, – Булка и Раисин Джек Пятый, отпрыск бесконечных перцевских псов. Из калитки вышел стройный угрюмый паренек – его прическа, одежда, манера держать толстую черную сигаретку словно говорили: мальчик непростой, нездешний, не иностранец ли? Это был срочно прилетевший на родину из Японии двадцатилетний Константин Шатов, которому отец сообщил о беде, приключившейся с мамой, и мечущийся, исстрадавшийся в беспокойстве сын, назанимав у своих университетских друзей астрономическую сумму на срочный рейс, прилетел в Москву. Из аэропорта отец привез его ночью на дачу, потому что находиться в замкнутом пространстве московской квартирки, где каждый предмет, каждая паркетина и завитушка на обоях «кричали» о хозяйке, не представлялось никакой возможности. Акуловку, конечно, тоже пронизывал Люшин дух, но простор, разнообразие объектов приложения рук, участие близких людей – соседей чуть ослабляли тоску и тревогу.
Состояние Юлии Шатовой заметно улучшилось. Она пришла в сознание. Сотрясение мозга, сильнейший ушиб спины и рваная рана на ягодице, из-за которой она потеряла много крови, не представляли опасности для жизни. Первые сутки рядом с ней находился муж – сидел стражем у постели постанывающей, замотанной бинтами и намертво прикованной животом к кровати Люши. Вечером его меняла Светка, которой пришлось ходить на работу под страхом увольнения, но она приезжала к девяти вечера в Эм-ск и дежурила около подруги, заставляя Сашу прикладываться на часок-другой на соседнюю, пустующую койку. Спасибо Сергею Быстрову – расстарался, устроил пострадавшую в местной больнице по высшему разряду, чувствуя свою вину. По настойчивой просьбе руководства Эм-ского УВД в больнице выделили коммерческую палату для больной Шатовой, и следователь Быстров, сдержанный, сухой, немногословный, но с яростным взглядом, метался по коридорам, требуя неусыпного внимания персонала к пациентке и лучших медикаментов. Конечно, Александру Шатову, в конце концов, принесли прайс на услуги стационара, и он внес аванс, категорично запретив Светке делиться этой информацией с сердобольным «Сереженькой». Саша был спокоен, что Люша находится в нормальных условиях и нет необходимости перевозить ее в Москву, что, конечно, травмировало бы несчастную «сыщицу». Сидя у постели жены, Александр благодарил Бога, который послал этого замечательного Гошку на болота, и клялся, что НИКОГДА не будет отпускать от себя эту неугомонную, добрую, родную женщину, без которой он не представлял своей жизни. Узнав, что в Москву прилетает сын, Люша запретила Саше торчать возле нее без толку, а потребовала ехать отсыпаться и встретить Котьку как следует: ему ведь после перелета тоже нужно прийти в себя. В общем, Люша не ждала сегодня родных в больницу, поговорив утром по телефону с расстроенным ребенком: