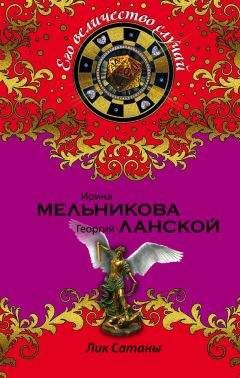Конечно, Саша где-то понимала мать. С начала замужества у нее не заладилось со свекром. Сашин отец, младший сын деда, в эти конфликты не вмешивался, он вообще старался в семейные проблемы не вникать. Считал, что обеспечивает семью, и это – самое главное. Но в последние месяцы он тоже почти перестал общаться с дедом, и если навещал мать, то в отсутствие отца или вообще отделывался звонками по телефону.
Ни родители, ни дед о причинах конфликта не распространялись, а Саше в принципе было все равно, из-за чего они дулись друг на друга. Деда она всегда любила не меньше, чем бабушку. По сути, она выросла у них на руках, а когда училась в школе, то жила в их семье неделями, потому что вечно занятые родители не особо утруждали себя ее воспитанием.
И поэтому кто лучше ее мог знать, что раньше все было по-другому. Из кухни веяло ароматами домашних пирогов и только что сваренного кофе, раз и навсегда запрещенного деду врачами, но кто их, этих чертовых эскулапов, слушал? А к Сашиному визиту бабушка частенько готовила кулинарный кошмар – мясо по-французски, блюдо, от которого истинный француз пришел бы в ужас.
– Вам велели диету соблюдать, – ворчала Саша. – Это ведь сплошной холестерин!
– Вот поэтому я сделала это блюдо не со свининой, а с куриной грудкой, – невозмутимо отвечала бабушка и подкладывала внучке аппетитный кусочек мяса с ладонь величиной. – Ешь, а то совсем отощала! Кожа да кости! Как ни верти, на кости натыкаешься! Чистый срам!
Саша себя тощей не считала, но иногда после бабушкиной отповеди шла к зеркалу, становилась в профиль и критически оглядывала в зеркале фигуру, не находя особых изъянов. Да, грудь маловата, и попа с кулачок, не то что у девчонок с работы, которые к тридцати годам наели такие першероны, что в дверные проемы входили боком. Но дед шутил, бывало, что диеты – происки империалистов. Хотят, подлюки, извести красивых российских женщин. Поэтому прочь кровожадные диеты! Да здравствуют пирожки и мясо по-французски!
Убедив себя в правильной расстановке жизненных приоритетов, Саша показывала зеркалу язык и, взъерошив короткие темные волосы, убегала по делам.
Бабушка таяла и старела на глазах, хотя и бодрилась, и делала вид, что все в порядке, но разносолов на кухне поубавилось. Теперь она варила жиденькие супчики да кашки и частенько, вернувшись из музея, где все еще консультировала и помогала с выставками, без сил падала на кровать. Дед ее усталости не понимал, что-то требовал, раздраженно покрикивал. А она будто боялась чего-то и прислушивалась к шаркавшим шагам в подъезде и прочим шумам за дверями: а ну, как притаились в подъезде враги?
Возможно, Саша преувеличивала, но ей казалось, что у стариков появились какие-то тайны, в которые они не спешили посвящать единственную внучку. Разговоры при ней умолкали, хотя сидела она частенько до упора, и тогда дед, краснея от злости, начинал орать на бабушку без повода, пыхтел, словно закипавший чайник, а та покорно терпела.
У Саши разрывалось сердце от их ссор. Пару раз она рискнула возмутиться, но бабушка вызвала ее на кухню и неожиданно строго сказала:
– Ради бога, не вмешивайся! И дедушку не осуждай! Мы столько лет прожили вместе, так что научились ладить при любых обстоятельствах.
– Ладить? – взвилась Саша. – Ты это называешь «ладить»? – И кивнула на комнату, где дед в приступе гнева расколошматил о пол вазу из чешского стекла.
Бабушка обняла ее за плечи, притянула к себе и, как бывало в детстве, поцеловала в макушку.
– Молодая ты! Видишь лишь то, что на поверхности…
И заспешила к деду, который, ворча под нос, заметал веником осколки вазы на совок.
Но незадолго до бабушкиной гибели Саша не выдержала и назвала деда тираннозавром.
– Что ты набрасываешься на людей, как звероящер? – выкрикнула она в ярости в ответ на его полную яда тираду, направленную, как стрела, в беззащитную бабушкину голову. – И грызешь, и грызешь! Дай ты ей покой, в конце концов!
Дед словно ждал этого взрыва. И мигом переключился на внучку. Он – прежде интеллигентный и сдержанный – бил себя в грудь кулаком, и вопил, и ругался, как базарная торговка. А ее, Сашку, любимую внучку, назвал неблагодарной тварью, напомнив, кто ее вырастил, пока родители занимались непонятно чем. Саша не стала выслушивать до конца гневную рацею и ушла, демонстративно хлопнув дверью. В лифте она немного успокоилась и дала себе зарок не показываться у стариков по крайней мере пару недель, пока дед не прекратит обливать всех желчью. На большее у нее просто не хватало злости.
Вскоре после ссоры Саша уехала отдыхать на Байкал, как раз на пару недель, не ведая, что все печальное впереди. И размышляла, не задержаться ли на пяток дней, но ночью позвонила мать. Саша с трудом разобрала сквозь помехи ее расстроенный голос: «Приезжай, погибла бабушка!» – и мигом перестала что-либо соображать. Она не впала в истерику от горя, не причитала от чувства вины, просто тупо стояла посреди номера, не понимая, что ей делать, как поступить дальше…
Добрая душа и хозяин турбазы – бурят Доржи, которого все называли Жориком, к утру подбросил ее до иркутского аэропорта на собственной машине. К рейсу успели, но билетов на него не осталось. Саша впала в отчаяние: на поезде пришлось бы добираться два дня. Но тут Доржи сбегал к директору аэропорта, от чего мигом нашлось свободное место. На автопилоте она поднялась в самолет и пришла в себя от окрика бортпроводницы:
– Девушка, вы глухая? В третий раз прошу: пристегните ремни!
Дома поплакать толком не пришлось. Саша отпаивала валерьяной мать, души не чаявшей в свекрови. Похоронами тоже пришлось заниматься ей. Отец, и раньше не числившийся в смельчаках, растерялся и, приняв на грудь для храбрости, не просыхал все горькие дни прощания с матерью. Дед же и вовсе точно обезумел. Колючий и злобный в скорби, загнанной вглубь, он не подпускал родню на пушечный выстрел. И как Саша ни пыталась, помириться не получилось. Не сумела признать сердцем, что была виновата, а дед это чувствовал. И правда, в чем ее вина? Придирки деда – мелкие, но злые и обидные, могли кого угодно довести до белого каления. И, видит бог, она терпела до последнего! Единственно, с бабушкой нужно было попрощаться перед отъездом, обнять, успокоить. Эх, знать бы наперед, что все обернется таким образом! Но в бедах и поражениях люди сильны задним умом, а в том, что случилось, как говорил дед, нет сослагательного наклонения. Правда, это относилось к истории, но какая разница?
Саша старалась найти оправдания, корила себя за черствость и упрямство, но на душе легче не становилось. А после того как ушел из жизни дед, чувство вины и вовсе удвоилось… К тому же она не верила, что бабушка погибла случайно, а дед покончил с собой. Саша перебирала в памяти последние события, сравнивала, анализировала и все больше склонялась к тому, что права в своих подозрениях и нужны лишь несколько пазлов, чтобы сложилась целостная картина преступления.
Но где и как отыскать эти пазлы, она не знала и напрасно ломала голову, пока не вспомнила, что в начале весны дед давал интервью местному щелкоперу Никите Шмелеву, известному своими нападками на местных чиновников и полицию. Помнится, Саша тогда удивилась, что Шмелева, разоблачителя криминала во власти и вне ее, заинтересовала вдруг довольно мирная тема культуры региона, исторического переплетения этносов и религий, в чем дед был большим специалистом.
А статья, которую дед собирался вставить в рамочку, оказалась вполне интеллигентной, без присущих Шмелеву выпадов и ехидных комментариев.
Словом, недолго думая, Саша миновала вахтера, бросившего на нее бдительный взгляд, поднялась на лифте на третий этаж, где располагалась редакция, и стала разыскивать нужную табличку. Она представляла жизнь редакции куда более кипучей, но вокруг было на удивление пусто и уныло, а жизнь, похоже, теплилась только в конце коридора, откуда доносились негромкая музыка и взрывы смеха. Саша направилась было туда, но, скользнув взглядом по табличке на ближней двери, притормозила. «Корреспонденты» значилось на ней, а чуть ниже «Никита Шмелев. Анна Гурова. Сергей Чупров».
Ага, значит, здесь!
За стеной истошно верещал женский голос. Не успела Саша постучать, как дверь распахнулась, и наружу рванулась девица, отчаянно рыжая и коротко стриженная, отчего голова ее смахивала на новогодний мандарин. Лицо «мандаринки» покрывали красные пятна, и она клокотала от злости, точно камчатский гейзер. Чуть ли не размазав Сашу по стенке, девица смерила ее яростным взглядом и ринулась по коридору прочь, влетев, словно торпеда, в открытые двери лифта. Саша замешкалась и снова едва не пострадала: следом выскочил молодой человек лет тридцати – лохматый, небритый, в черной майке с оскаленной волчьей мордой и в шортах цвета хаки.