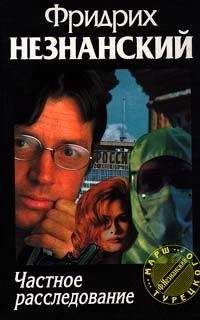Кричал он страшно, возвышаясь тоном; казалось под конец, что режут младенца.
Крик оборвался на плачущей ноте, шлепком.
Народ, как водится, безмолвствовал…
На следующий день, на рассвете, Турецкий осторожно сел на нарах.
Юрка Фомин мгновенно проснулся, но Турецкий показал ему знаком: лежи, я один.
Выйдя из барака, Турецкий крадучись двинулся к лесу, в сторону женского лагеря…
Вот и колючка. Совсем рассвело.
С той стороны бродили женщины, немного, пять или шесть, такие же неприкаянные, как Турецкий, такие же ищущие…
— Ира… — тихо позвал Турецкий. — Ира… Там Иры нету? — спросил он одну из женщин.
— А как фамилия? — женщины сгрудились напротив него, у колючки. В глазах надежда, жалость, мука…
— Фамилия? — Турецкий тут остолбенел. — Фамилию забыл.
— Ты вспомни.
— Не могу! Ира и Ира. Всю жизнь — Ира.
— Женился бы, так знал бы! — не без сарказма заметила одна из женщин.
— Конечно! — согласился Турецкий, волнуясь и не улавливая сарказма. — Да я на ней же и женат! И, стало быть, фамилия ее такая же, как и моя. А я ведь и свою фамилию забыл!
Женщины понимающе качали головами.
— Это здесь часто бывает… — сказала одна.
Понурив голову, Турецкий брел от колючки назад, к мужскому бараку, как вдруг его окликнули:
— Турецкий? Александр?
— Я! — он повернулся, бросился назад, к колючке. — Я — Турецкий, да!
— Она просила передать вам…
— Что?! — он уже вдавился всем телом в прозрачную непроницаемую колючую стену.
— Чтоб лихом вы ее не поминали.
— Лихом… — он осекся. — Почему?!
— Ее же в Мясорубку прошлым утром запихнули…
— Не-е-ет! — Турецкий не поверил. — Художника! Я сам видал!
— У вас — художника. У нас — ее.
И мир сломался у него в глазах. Сломался и померк.
В тот же день вечером Турецкий повесился в дощатом нужнике, выстроенном рядом с бараком.
Ржавый гвоздь в горбылине напротив, торчащий и ничего не значащий в обыденной жизни, стал расти в своей ранее не понятой многозначительности и вдруг расцвел, как и вся стена, зловещими, пятнистами кругами…
Мир не пропадал.
Сильнейшая боль сковывала все, что было выше затылка, тело немело, как будто отрезанное, с ломотой, с набуханием… Турецкий с формальной четкостью ощутил, как шейные позвонки растягиваются от веса всего организма.
В дощатник вбежал Бегемот, сосед Турецкого по бараку. Бегемот мельком скользнул по нему взглядом и устроился на угловом очке.
— Что, — спросил он тужась. — Висишь?
Турецкий из последних сил захрипел, проталкивая воздух из груди сквозь петлю…
— А я, дурак, сожрал тут дохлую ворону… — сообщил Бегемот и опять напрягся, закряхтел, страдая. — Вот жадность-то! Валялась за бараком. По вору и мука! С костями съел, осел, с костями, с клювом… Клюв мясом пах. О-о-х, мама родна-а-а…
Турецкий издал жуткий, страдальческий звук, не оставлявший сомнений — невыносимо!
— Сейчас… — засуетился Бегемот, подтягивая штаны. — Сейчас сниму.
— Если бы здесь повеситься можно было! — бубнил он, освобождая Турецкого от петли. — Все давно бы уже…
Бегемот потрепал Турецкого по шее, на которой уже исчезала странгуляционная полоса, а затем ловко повесился сам. Повисев секунд десять, он подтянулся, схватившись одной рукой за веревку выше петли, другой рукой снял петлю и спрыгнул.
— Один тут выход — Мясорубка! — он снова устроился на очке. — И дам еще совет: не ешь подохших ворон.
Напрягшись, он замер…
— Товарищи! — голос звучал снизу, из выгребной ямы. — Товарищи!
— Ты кто? — Бегемот, не вставая, развел ноги пошире и посмотрел прямо вниз, под себя.
— Тарасов я, инженер…
— А-а, без вести пропавший? Тебя в понедельник иска-ли-искали Бичи, а ты вон где гнездо себе свил!
— Какое гнездо? — в голосе звучала боль, огорчение. — Меня в понедельник убили свои же… Сожрали… Прям на работе, в кустах… Евдоходов, Кузьков, Леговойтов, Порошин…
— Сожрали на работе, на сопке? А здесь ты теперь почему?
— Куда же мне попасть-то было? — обиделся вконец инженер Тарасов. — Дорога одна. В понедельник сожрали, во вторник, в среду — сюда, по частям… В четверг и в пятницу срастался… Сегодня суббота?
— Нет. Воскресенье.
— Ну, значит, три дня срастался, сплывался…
— Скажи мне спасибо, — заметил, наклоняясь, Бегемот. — Я тебя все эти дни живой и мертвой водой поливал.
— Идея! — воскликнул вдруг Турецкий и даже перестал разминать себе шею. — Взорвать их всех, Бичей! Зараз! Пока они срастаться будут, мы власть возьмем!
— Да чем ты их взорвешь?
— Найдем чем… Гору-медведь взорвали ж чем-то вместе с бригадой?! Найдем, чем их взорвать! Собрать бы их только в кучу!
— Да как их соберешь!
— Постой! — задумался Турецкий. — Придумать можно! Вот, стой! Они ж любое, ну, не бессмысленное что-то не переносят!
— Особенно искусство ненавидят, — заметил Бегемот.
— Во кавардак им учинить можно! Я ж в молодости на гитаре играл…
— Да где ж гитару тут возьмешь? — вздохнул Бегемот сокрушенно.
— Гитару можно сделать, — сообщил Тарасов из подполья.
— Из чего?!
Тарасов хмыкнул:
— Советский инженер что хочешь сделает. Была б вода-земля-воздух и колючая проволока…
— Ну, этого у нас навалом! — заметил Бегемот. — Сейчас же вылезай!
Весть о готовящемся мятеже против Бичей была воспринята в мужском бараке с энтузиазмом неописуемым.
Нашлась и взрывчатка, «заначенная» при уничтожении горы-медведя, нашлись и подрывники…
— Вот здесь!
Вчетвером— Турецкий, Бегемот, инженер Тарасов и Юрка Фомин — они стояли на длинном мысу, выступавшем далеко в море.
— Здесь можно долго держать оборону.
— На, попробуй, — инженер Тарасов протянул Турецкому топорно сделанную в сверхкустарных условиях гитару…
Турецкий подстроил ее, подтянув колки ручками, сделанными из «ежиков» колючей проволоки.
— Страшна как смерть она, конечно. Но звучит, черт возьми! И неплохо.
Было раннее утро. Через сорок минут заявится первый Бич и зычным голосом объявит подъем.
На мысу, среди камней, настраивал аппаратуру ансамбль самоубийц под руководством Турецкого. Кроме гитары, сотворенной инженером Тарасовым, у них уже были три свирели, две свистульки и целый комплекс ударных, сделанных также из подручного материала.
На перемычке, соединяющей мыс с материком, притаились две группы прикрытия: одна — Бегемота и другая — Юрки Фомина. Их целью было держать оборону мыса как можно дольше, притягивая к нему, собирая на заминированном мысе как можно больше Бичей…
Наконец все было готово.
— Семь минут до подъема.
— Что мы будем играть?
— Будем играть Турецкий марш Моцарта, — ответил Турецкий, и все дружно захохотали, предвкушая противостояние, борьбу и смерть за свободу.
От первых же звуков, прокатившихся над прибоем, вскочил весь барак… Радостные крики, далеко распространяющиеся над утренней морской гладью, доносились отовсюду, казалось, весь этот странный, бредовый мир вдруг обрел разум, гордость и волю к свободе…
Бичей, ринувшихся на мыс, сбивали с перемычки… Но силы были явно не равны, подмога к Бичам все прибывала и прибывала… К полудню сотни Бичей ворвались на мыс, опрокинув заслоны, крошить, дробить, увечить…
И тут инженер Тарасов, внимательно следивший за всем происходящим из укрытия, соединил две колючие проволоки — сверкнула искра…
Мыс вздыбился и исчез в столбе бело-зеленой воды, рванувшей в небо с громом, песком, людьми, Бичами и камнями вперемешку.
— Свобода!! — возликовал народ на берегу.
— Ура-а-а!!!
Бич неимоверно подлого вида с лицом жестоким, лицом хронического беспощадного алкоголика смотрел на Турецкого с портрета на стене.
Еще более сволочного вида свирепый пьяный Бич — живой и здоровый — сидел за столом, напротив Турецкого, в кресле.
Турецкий, со связанными руками, сидел у стены на табурете, сделанном из железобетона и, казалось, выраставшем из пола серым угловатым грибом.
— Ну, вот мы и срослись с вами, господин музыкант… — Бич поднял палец. — Но! Срослись, как и прежде, по разные стороны баррикад. — Бич постучал по своему массивному столу. — Ты — там, а мы, как и были, — здесь!
Бич взял со стола личное дело Турецкого, открыл и, не успев прочитать ни строки, налился вдруг кумачом, впал в паранойю, вышвырнул дело в окно, затопал ногами.
— Все! — орал он Турецкому прямо в лицо. — Все! Все!! Все!!!
— Мясорубка? — спокойно спросил его Турецкий.
Бич вдруг остыл, так же внезапно, как впал было в гнев. Кивнув охране, взять, дескать, он тихо ответил: