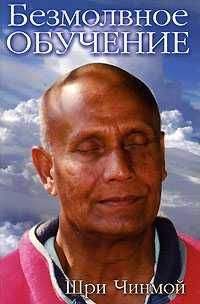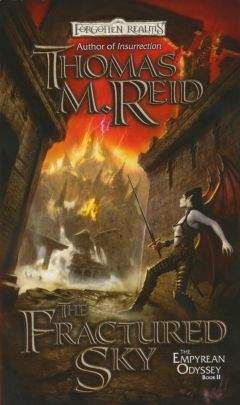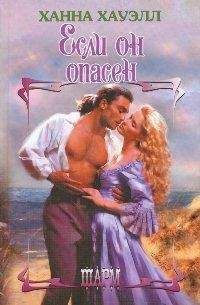все волосы у меня встали дыбом. Я думала, что совсем окоченела, но я ошибалась. Вид этой комнаты и сказанные сыном слова с предельной ясностью донесли до меня всю тяжесть выпавших на него в этом подземелье страданий, и мне оставалось только гадать, смогу ли я вообще когда-нибудь согреться. Смогут ли горячая ванна или душ когда-нибудь смыть тот холод, что рождается, когда знаешь и точно понимаешь, насколько жесток может быть человек? Что-то в этом роде я себе и представляла. Даже хуже. В моих кошмарах были и клетки, и цепи, и заляпанные матрасы, но клетка моего сына, которую я видела в реальности, прямо перед собой, оказалась хуже любого кошмара.
Я не могла пошевелиться, но всё же заставила себя осмотреть комнату. Эйден с факелом ходил из угла в угол, и я на глаз оценила габариты пространства. Я смотрела, а факел блуждал от зарешеченной части до разных вещей, находящихся в другой части комнаты. Я следила за тем, как пламя приблизилось к бесформенной куче в углу, и тут быстро отвела взгляд. Я пока что не хотела пристально останавливаться на ней, рассматривая вместо этого вентилятор, вентиляционные решётки на потолке, потёкший холодильник, маленькое кресло, потрёпанные игрушки, грязную одежду, не включённый в сеть обогреватель, стену, увешанную цветными рисунками, которые мой собственный сын так и не смог мне подарить. Из всех отвратительных вещей, которые были известны относительно того, что случилось с сыном, самой ужасной было то, что это место было его домом, именно здесь он и вырос. У меня подгибались колени, но усилием воли я заставила себя стоять прямо.
— Это медведь Бивер. Я, правда, уже слишком взрослый для него. Я нарисовал вот этот рисунок. Это Великая Китайская стена. Вот там у меня был пикник. Это гора, видишь? Это обогреватель. Мне разрешают включать его на тридцать минут утром и на тридцать минут вечером. Дольше нельзя, потому что генератор сломается.
Никто не знал. Прошло десять лет, а никто так и не узнал о существовании этого места. И я не знала.
Как ему это удалось?
Я перевела взгляд в другой конец комнаты, на кучу в углу.
— Эйден, кто это?
Но Эйден был занят тем, что пытался снять со стены один из рисунков.
— А это ты. Вначале я часто тебя рисовал. Сейчас ты выглядишь по-другому.
— Эйден, кто это? Кто привёл тебя сюда?
Стены со всех сторон. Трудно дышать. Казалось, каждая частичка моего тела потяжелела от осознания того, что я знаю, кто это, я должна была догадаться раньше. Я была такой дурой… Почему мне пришло это на ум только сейчас?
— Ах, да, он… — В голосе Эйдена звучала грусть. — Я видел, как уходят его мысли. Я не хотел, но хотел уйти отсюда.
— Как его имя, дорогой? — спросила я дрожащим голосом.
Но вместо ответа Эйден посмотрел вниз, на мои ноги:
— Мама, ты описалась?
Только сейчас я заметила, что вниз по джинсам у меня устремилась тёплая жидкость. Я глянула вниз: воды отошли и залили мне все ботинки, и вокруг меня растекалась по полу мутная лужица.
44
ЭЙДЕН
Он уже должен быть здесь. Проверяю часы: 9 вечера. Он сказал — в семь. В среду, братуха. В семь ноль-ноль. До этого продержишься. Еда в холодильнике. Генератор заряжен. Всего три дня, приятель, ладно? Ты и раньше по стольку ждал.
Плохо, когда он не приходит. Потом он приходит, и это ещё хуже. Но когда я один много дней, мне страшно. Когда я был маленьким, мне было просто холодно и одиноко. Я думал о маме, папе, бабушке и ребятах из класса. Даже о вредной маленькой Рози, она вечно брала у меня без спросу красный карандаш. Мне хотелось, чтобы все они были со мной.
Потом я повзрослел, и у меня появились другие мысли. А если генератор сломается? Что, если не будет электричества и мне придётся сидеть в темноте? А если забьётся вентилятор и я умру от удушья? Правда, до сих пор самым ужасным было, когда сломался слив в туалете и когда у меня было расстройство желудка. В обоих этих случаях он бросал мне в клетку чистящие средства и, закрыв нос и рот шарфом, смотрел из-за решётки, как я убираюсь.
Что ж, хоть какое-то занятие. Тут абсолютно нечего делать, и это сводит меня с ума. Иногда он приносит мне книги. Я просил ручки и карандаши, но однажды я воткнул карандаш себе в руку, и с тех пор он даёт мне только мелки. Я рисую ими картинки, но хотел бы научиться рисовать лучше, а с восковыми мелками это не получится.
Иногда он стрижёт мне волосы. Иногда приносит ванну и наливает в неё горячую воду, и я могу искупаться. Он говорит, что любит меня, и иногда я в это верю.
Но я не хочу оставаться здесь, никогда не хотел. Поэтому каждый вечер он проверяет замки на клетке и запирает входную дверь. Я слышу, как он поднимается по ступенькам, а потом лязгает замок. Кажется, там две двери.
Часами я размышлял о том, где нахожусь. Рисовал, как всё выглядит по моим представлениям. Когда он приходит, на ботинках у него грязь, так что я знаю, что мы где-то за городом. Может, в поле. Может, на ферме. Я плохо помню тот день, когда он забрал меня. Я смотрел на реку — и в следующее мгновение я проснулся на матрасе за металлической решёткой.
Я ничего не понимал.
Я постоянно звал маму, но она так и не пришла. Думаю, она не знает, где я нахожусь, потому что если бы знала, то пришла.
Однажды я попросил карту, но он не принёс. Думаю, он забыл. Я хотел, чтобы он показал на карте, где мы находимся. Мама всегда всё показывала мне на карте. Она показывала мне на компьютере разные места в разных уголках мира, и я всегда говорил, что хотел бы поехать туда.
Я много думал о том, как отсюда выбраться. Он иногда выпускал меня из клетки, но он большой