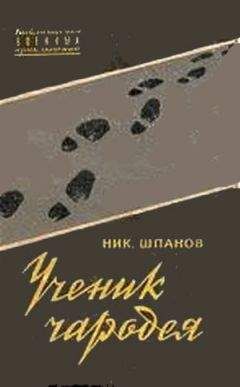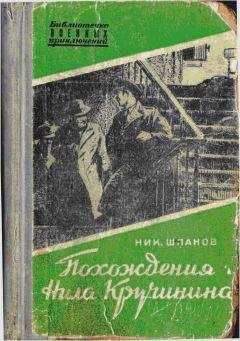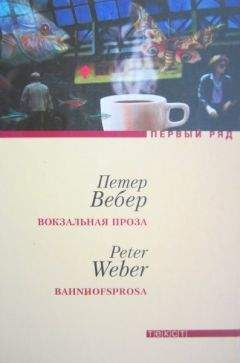Проанализировав первые же данные по делам Круминьша и Ванды Твардовской, Крауш посоветовался с Комитетом Государственной Безопасности. Он чуял здесь кое-что не только связывавшее эти дела, но и выводившее их из ряда обычной уголовщины. Оценив сложность дела и посетовав на загруженность своего аппарата, Крауш после письма Кручинина окончательно решил, что самым разумным будет не отпускать Грачика в Москву, а именно ему и поручить ведение этого дела под его, Крауша, собственным наблюдением. Так будет лучше всего!
То, что холод и пасмурное небо то и дело разгоняли курортников с пляжа, не смущало Грачика. Молодость не боится капризов климата и смены температур. Сушь и ковыльное приволье степи ей так же милы и полезны, как сумрачная прохлада лесов или бурная влажность взморья; пальмы Сухуми или сосны Карелии — не все ли равно? Лишь бы было красиво, привольно и весело.
Грачик рассчитывал, что как только закончится дело Ванды Твардовской, ему удастся и покупаться, и погреться на Рижском взморье. Поездка в Прибалтику была запланирована давно, когда в неё собирался ещё и Кручинин. Был подготовлен к путешествию новенький автомобиль Нила Платоновича, была даже приобретена в складчину разборная байдарка. На ней друзья собирались совершать экскурсии по озёрам Эстонии и Латвии.
Прилетев в Ригу для расследования дела Ванды Твардовской, Грачик относился к пребыванию здесь, как к антракту перед увлекательным путешествием на «Победе», лишь только её сюда перегонят и приедет Кручинин. Но тут Ян Валдемарович Крауш предложил Грачику заняться делом Круминьша. Грачик попробовал сослаться на то, что в таком деле рижским товарищам и книги в руки, но прокурор довольно решительно заявил, правда, не глядя на Грачика:
— Народ у меня сейчас очень загружен, сами знаете: нужно пересмотреть тысячи дел. Ваш приезд весьма кстати. К тому же — скупая улыбка, мало свойственная обычно суровому прокурору, пробежала по его лицу — по аналогии: там самоубийство, тут самоубийство.
— Это лишь на папке значится «самоубийство», — возразил Грачик, — а на самом деле Ванда Твардовская…
— Вот, вот, — перебил его прокурор, — тут, по-моему, тоже только «на папке»… И, кроме того, у меня есть свои причины свести эти дела в одно. Когда придёт время, я вам скажу почему.
Серьёзность дела Грачик понял сразу, как только Крауш рассказал ему предысторию. Заключалась она в том, что вскоре после снятия охраны с двух латышей Круминьш исчез. Соседи Круминьша показали что он ушёл в сопровождении офицера милиции и какого-то штатского и больше не вернулся. Вскоре после этого по городку С. пополз слух о том, что-де, несмотря на добровольную явку Круминьша советским властям, невзирая на его раскаяние и прощение, его всё-таки арестовали.
Следует заметить, что с момента появления в С. Круминьш и Силс не были предоставлены себе. Профсоюзная организация бумажного комбината, на котором они работали, настойчиво вовлекала их в общественную деятельность. Товарищи справедливо считали, что приобщение реэмигрантов к полнокровной жизни народа — залог их перевоспитания. То, что Круминьш был снова арестован, показалось рабочим несовместимым не только с его собственной реабилитацией, но и с той работой, какая была поручена молодёжи завода: сделать Круминьша и Силса полноценными и полноправными членами заводского коллектива.
Силс был подавлен арестом своего бывшего напарника и не решался произнести ни слова протеста. Но молодёжь завода была настроена иначе. Она хотела иметь ясное объяснение неожиданному повороту в судьбе Круминьша. Запрос в Ригу — и все стало ясно: никто и не думал арестовывать Круминьша. Он сделался объектом провокационного акта врагов. Очевидно, целью провокации было разбить впечатление, какое патриотический поступок Круминьша и Силса произвёл на умы «перемещённых» за рубежом. Быстро принятые меры не помогли найти ни исчезнувшего Круминьша, ни следов преступления. «Арестованный» Круминьш вместе с «арестовавшими» его людьми словно в воду канул. Лишь случайно участниками молодёжной экскурсии на острове в протоке Лиелупе близ озера Бабите было обнаружено тело Круминьша.
В кармане Круминьша нашли письмо:
«Мои бывшие товарищи, я был прощён народом и принят в ваши ряды после самого страшного, что может совершить человек, — после измены Родине, после попытки нанести ей вред по указке иноземных врагов. Я с радостью и благодарностью принял великую милость моего народа. Я думал, что одного этого уже достаточно, чтобы стать его верным сыном. Но произошла случайность — меня арестовали. И, вероятно, яд вражеской пропаганды слишком глубоко проник в мой мозг, всплыло все, чему меня учили во вражеской школе шпионажа. Я возненавидел шедшего рядом со мною офицера.
Наверно, все скоро разъяснилось бы, и я спокойно пришёл бы домой. Но я понял это только теперь. Мне стыдно и страшно говорить теперь о том, что случилось. Я убил конвоира из его же оружия. Тело его спрятано мною, потому что я вообразил, будто смогу бежать, спастись…
Слишком поздно, чтобы идти со второй повинной. От вторичной вины мне некуда уйти. Передайте предостережение Силсу: никогда не сходить с пути советского человека. Что бы ни случилось, какими бы неожиданными и неприятными ни показались ему действия советских властей, — не давать в себе воскреснуть тому, что нам пытались вдолбить враги. Пусть Силс верит: советский народ и его власть никогда не совершат ничего, что шло бы вразрез с интересами нашей Родины. Они не допустят никакой несправедливости в отношении простого латыша — сына своей земли.
Целуя святую землю отцов, прощаюсь с вами. Не смею назвать вас ни друзьями, ни согражданами. Прощайте и простите. Таков заслуженный конец. Кто дал себя обмануть врагам, кто влез в их отвратительную паутину, — должен погибнуть. Эджин Круминьш».
Мимо острова, Северной протокой реки Лиелупе, лежал торный путь охотников к озеру Бабите. Выдавшийся в слияние протоки и главного русла реки обрывистый берег был излюбленным местом праздничных прогулок рабочей молодёжи бумажного комбината. Но с тех пор, как это случилось с Круминьшем, охотники стали держаться на своих моторках подальше от берега, а молодёжь сменила для экскурсий Северную протоку на Южную. В Южной протоке не было таких красивых высоких берегов, ни густого соснового бора, но бывшие товарищи Круминьша предпочитали песчаную полосу, отгороженную от воды всего лишь стеной камышей, чем постоянно иметь перед глазами лес, где они были свидетелями финала непонятной им драмы. А о том, что случившееся было им непонятно от начала до конца, свидетельствовали толки, не затихавшие далеко за пределами комбината. Но особенно острые, изобилующие недоуменными вопросами разговоры велись среди фабричной молодёжи. И самым недоуменным, самым острым, не получившим удовлетворительного ответа от старших товарищей, был вопрос: может ли в наше время, в нашей стране советский человек, притом молодой человек, покончить с собой? Существуют ли обстоятельства, способные толкнуть на такой поступок?
Вывод сводился к тому, что заставить кого-либо из них, и даже такого их сверстника, каким был Круминьш, добровольно накинуть на себя петлю, — нельзя. Если это случилось, то виноват в этом не он, а кто-то другой. Кто? Виновного молва искала недолго. Все чаще мелькало имя Мартына Залинь, все больше пальцев показывало в его сторону. И, как говорит старинная пословица, глас народа, по-видимому, действительно является гласом божьим, то есть голосом правды: мнение рабочей общественности сошлось с мнением властей — Мартына вызвали к следователю. Нашлось много желающих показать то, что было широко известно на комбинате и в рабочем посёлке: ненависть Мартына к Круминьшу, его угрозы разделаться со счастливым соперником, его прошлое беспризорника с несколькими приводами — всё, что могло служить косвенными уликами в обличении убийцы. Единственным из друзей Круминьша, кто не выказал желания идти к следователю, был Силс. Но его свидетельство едва ли и было нужно после того, как Луиза решилась высказать следователю те же соображения, какие волновали остальных. Она подробнее других могла рассказать о случившемся у костра на берегу Лиелупе в ночь на Ивана Купала, и ей… да, ей совсем не было жалко Мартына.
— Он работает в очень трудном районе, где нет стоящего католического прихода, почти нет католиков! Можно подумать, что вы об этом забыли! — Шилде заявил это, даже не прибавив обычного титулования, какого требовало обращение к особе столь высокого сана, как епископ.
Епископ взглянул на Шилде подчёркнуто удивлённо.
— Что значит «стоящий» приход? Разве вам известны не «стоящие» приходы?
С того момента, как они очутились одни, Шилде утратил всякую почтительность. Ланцансу начинало казаться, что он напрасно оставил Шилде после совещания для приватной беседы. Видимо, не зря пробст Сандерс предостерегал епископа от излишне благосклонного отношения к этому человеку. Да, видно, это уж не прежний Шилде. «Эта свинья из тех, — сказал Сандерс о Шилде, — что способна слопать собственных поросят, если у неё разыграется аппетит. Шилде пальца в рот не кладите — откусит руку».