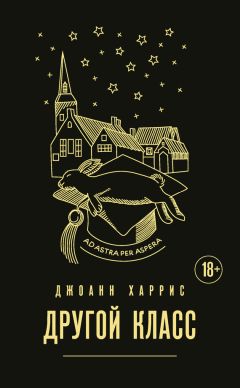Тогда большинство моих школьных коллег – а многие из них были типичными Твидовыми Пиджаками, то есть принадлежали именно к тому типу людей, к которому в итоге оказался причислен судьбой и я, – представлялись мне, неискушенному, какими-то поразительно дряхлыми и устаревшими. Я всячески игнорировал традиции «Сент-Освальдз»: не посещал утренние построения, именуемые Ассамблеями; использовал на уроках собственные, неортодоксальные, методы; старался привнести в объяснение нового материала какие-то более яркие, как мне казалось, нотки (например, иллюстрируя особенности первого склонения – mensa, mensa, mensam – я обычно подменял это слово существительным merda[25], которое ученики всегда по какой-то причине запоминали гораздо лучше).
Итак, в те дни нас на кафедре классической филологии было трое: я; доктор Фили, или Обидчивый – не в меру чувствительный и раздражительный выпускник Оксбриджа, вполне соответствовавший своему времени; и директор школы доктор Шейкшафт, одновременно считавшийся заведующим нашей кафедрой. Впрочем, кафедрой Шейкшафт заведовал лишь номинально, а с учениками имел дело лишь в случае крайней нужды или в те нечастые моменты, когда на уроке требовалось присутствие третьего преподавателя классических языков.
Впрочем, директору и не полагается иметь слишком много учебных часов в неделю, а потому доктор Шейкшафт с удовольствием предоставлял мне и доктору Фили полную свободу, частенько разрешая действовать от его имени; сам же он большую часть дня проводил в своем «святилище», целиком погруженный в директорские заботы, столь же жизненно необходимые, сколь и абсолютно непостижимые. Разумеется, когда дело доходило до жалоб, то первым о них узнавал именно доктор Шейкшафт. Так было и в тот дождливый день примерно через четыре недели после начала триместра, когда меня во время обеденного перерыва вызвали (это единственный глагол, способный описать данное действие) в директорский кабинет.
– Войдите.
Кабинет директора представлял собой довольно просторную комнату с коричневыми стенами, насквозь пропитанную запахами кожи и сыра; готические окна кабинета выходили на прямоугольный школьный двор. Сам директор сидел за столом и делал вид, что пишет какое-то важное письмо, хотя я был уверен, что перед тем, как я постучался, он, как обычно, слушал радиоприемник. Его пальцы сжимали ручку с золотым пером, которая была размером с небольшую торпеду. Он ничем не обозначил, что заметил мое появление, и с нарочитой серьезностью продолжал писать; затем поставил под письмом свою размашистую подпись и тут же начал сочинять следующее послание. Я молча ждал, стоя на маленьком восточном коврике перед его письменным столом.
Таков уж был стиль нашего старого директора, знаете ли. Каждое его действие было буквально пропитано грубостью, родственной удару дубиной, а его презрение к тем, кто не способен был этой грубости противостоять, было поистине легендарным. Я выждал минут пять, наблюдая за каплями дождя, сползавшими по оконным стеклам, заключенным в тесные переплеты, и спокойно сказал:
– Я вижу, вы очень заняты, господин директор. Пожалуй, мне лучше зайти в более удобное для вас время.
С этими словами я двинулся к двери и наверняка ушел бы, но тут директор, должно быть, догадался, что я его попросту провоцирую, и, отложив свою «торпеду», воздвигся из-за стола. Он навис надо мной с таким выражением лица, которое заставляло трепетать даже самых отъявленных хулиганов, а обычных мальчиков доводило чуть ли не обморока; ученики старших классов даже дали доктору Шейкшафту прозвище SS, что означало отнюдь не «эсэсовец» (хотя, возможно, отчасти подразумевалось и это, поскольку Шейкшафт преподавал немецкий язык), а Шкуродер Шейкшафт[26].
Но я-то был уже далеко не мальчишкой, да и мужества у меня вполне хватало. А с такими типами, как наш старый директор, грубиянами старой школы, нужно было действовать решительно, стараясь не только их осадить, но и показать свою готовность дать сдачи. Это, кстати, было не так-то легко. Например, наш старый директор обладал поистине носорожьей толстокожестью. Подобная толстокожесть в сочетании с весьма своеобразным распределением по телу его немалого веса действительно больше подошла бы носорогу, а не человеку. И глазки у Шейкшафта были как у разъяренного носорога – маленькие, выпуклые, налитые кровью. И те звуки, которыми сопровождалось, скажем, его вставание из-за стола – некое неопределенно-грозное «уфф!» – тут же вызывали в памяти пьесу Ионеско «Носороги»[27], которую французская группа Эрика Скунса как раз в тот год изучала.
– Прошу вас, господин директор, не беспокойтесь, – сказал я. – И, право, не стоило вам из-за меня отрываться от важных дел и вставать из-за стола.
Он снова издал свое грозное «уфф!», а потом уже простыми словами послал меня вместе с моим нахальством к черту.
– Полагаю, вам это кажется смешным? Комедиант чертов! Сейчас вам будет не до смеха – мы получили жалобу. Вот! – И он швырнул в мою сторону листок бумаги, который я ухитрился поймать. Оказалось, что это написанное на почтовой бумаге письмо от некоего д-ра Харрингтона, магистра гуманитарных наук, выпускника Оксфорда.
На меня уже много раз приходили жалобы. Разумеется, сейчас я получаю их гораздо чаще, потому что каждый ученик знает свои права (или думает, что знает), и то поведение, за которое он в былые времена наверняка получил бы выговор, или был бы оставлен после уроков, или даже заработал бы несколько ударов хлыстом, теперь определяется как «определенные трудности с процессом обучения» – гиперактивность, дислексия, дефицит внимания и т. п. (то есть все то, что мы, куда более черствые, когда-то называли простой невнимательностью), – а значит, этот ученик заслуживает чуткого обращения, а не доброго шлепка по попе.
Лично я всегда считал старые методы школьного воспитания вполне действенными (так, между прочим, считали и сами ученики), но та парламентская фракция, которая внесла в запрещенный список выражение «чернокожий» и ввела в обиход такие лингвистические монстры, как «председательствующий», «обладающий иными возможностями» и «академически сомнительный», очевидно, думала иначе. В настоящее время я получаю жалобу практически каждый раз, стоит мне кого-то оставить после уроков; впрочем, я по большей части подобные жалобы игнорирую – да и сами мальчики тоже. Но в былые времена жалоба от родителей была событием довольно серьезным, вот я и ломал голову, пытаясь понять, чем это я сумел настолько огорчить доктора Харрингтона, MA[28].
– Кто такой этот Харрингтон, между прочим? – спросил директор.
Я сообщил ему то немногое, что знал о юном Харрингтоне из его личного дела. Затем я прочел письмо, и туман начал рассеиваться. Сейчас я, конечно же, не могу припомнить все дословно, но некоторые фразы намертво застряли в моей памяти. «Недостаточное моральное руководство», например; а также «словарь, совершенно не подходящий для классной комнаты» или «постоянное использование всевозможных грязных и непристойных выражений».
– Но я не употребляю грязных и непристойных выражений! – возмутился я. И это чистая правда; я ни разу даже не обругал ни одного ученика как следует, хотя, Господь тому свидетель, пару раз у меня были для этого все основания.
– Но этот мальчишка утверждает обратное! – фыркнул директор. – Мало того, этот мерзавец даже представил список всех неприличных слов, которые вы произносите на уроках, и передал этот список своим родителям, черт бы их побрал, а те – и если бы вы потрудились более внимательно прочесть личное дело проклятого щенка, то знали бы об этом! – просто ушиблены Библией и считают, что Мэри Уайтхаус[29] являет собой весьма опасную разновидность либералки…
– Отлично сформулировано, господин директор! – искренне восхитился я.
Услышав это, директор набычился и перешел в наступление, сунув мне пресловутый список, где слова, расставленные в алфавитном порядке, были аккуратно написаны знакомым остроконечным почерком Харрингтона.
Merda, merda, merdam…
– Ага… Ну и что? Разве хоть кто-то может на такое обидеться?
– Очевидно, кое-кто уже обиделся! – рявкнул директор.
– Да у этого мальчишки просто podex с merda[30] вместо мозгов…
– Что?
– Просто фигура речи, господин директор.
– И, кстати, вполне соответствует действительности… Но что за идиот…
Заметив, что директор вот-вот окончательно выйдет из себя, я поспешил сказать:
– Господин директор, речь идет о латыни. Все эти слова есть в словаре. И, естественно, они вполне могут быть произнесены на уроке… (Хотя, может, podex или merda произносить и не стоило бы, подумал я.) И все это… – я сделал паузу и гневно взмахнул пресловутым списком, – все это просто особо тяжелый случай ханжества! То самое, что мои коллеги с французской кафедры называют honi soit qui mal y pense[31].