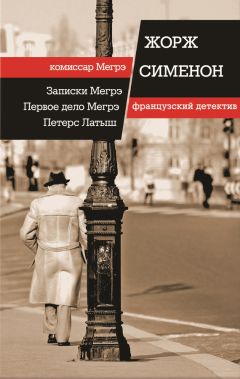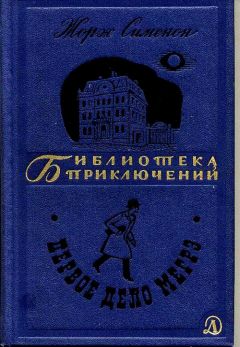– Я был очень занят.
Между тем я был уверен, что если мадам Леонар и справлялась обо мне, то лишь потому, что ее племянница…
Идем дальше! Я не нахожу нужным вдаваться в такие детали. Мне и без того будет трудно добиться, чтобы все, что я только что написал, не отправилось в корзину.
Примерно в течение трех месяцев ни о чем не подозревавший Жюбер играл весьма незавидную роль посредника между нами; впрочем, мы меньше всего на свете хотели его обманывать. Он приходил ко мне в гостиницу и завязывал узел на моем галстуке, уверяя, что сам я просто не смогу одеться. Именно он говорил, завидев меня одного в углу гостиной:
– Ты должен развлечь Луизу. Ты ведешь себя невежливо.
Именно он убеждал меня, когда мы оказывались на улице:
– Ты ошибаешься, полагая, что не интересуешь ее. Напротив, ты ей очень нравишься. Она всегда спрашивает о тебе.
К Рождеству подруга Луизы (та, которая немного косила) обручилась с пианистом, и они перестали бывать на бульваре Бомарше.
Уж и не знаю, то ли поведение Луизы обескуражило других кавалеров, то ли мы были не столь сдержанны, как нам казалось, но, так или иначе, каждую пятницу гостей у Ансельма и Жеральдины становилось все меньше и меньше.
Окончательное объяснение с Жюбером произошло в феврале, прямо в моей комнате. В ту пятницу он не надел фрак, и я сразу же это отметил. На его угрюмом лице застыло горестное выражение, как будто бы он исполнял трагическую роль в «Комеди Франсез».
– Я все же пришел, чтобы завязать тебе галстук! – сообщил он с унылой гримасой.
– Ты сегодня занят?
– Напротив, сегодня я совершенно свободен, свободен как ветер, я еще никогда не был таким свободным.
Он стоял передо мной с белым галстуком в руке и смотрел прямо в глаза.
– Луиза мне все рассказала.
У меня отвисла челюсть. Потому что мне она ничего не сказала. И я ей тоже ничего не сказал.
– О чем ты говоришь?
– О тебе и о ней.
– Но…
– Я задал Луизе вопрос. Вчера я специально пошел к ней.
– Но какой вопрос?
– Я спросил ее, не согласится ли она выйти за меня замуж.
– И она ответила отказом?
– Да, она ответила отказом, сказав при этом, что очень хорошо ко мне относится, что я всегда буду ее лучшим другом, но…
– Она говорила обо мне?
– Напрямую – нет.
– Так в чем же дело?
– Я все понял! Я должен был понять это еще в первый вечер, когда ты ел птифуры, а она смотрела на тебя так… снисходительно. Когда женщина смотрит снисходительно и понимающе на мужчину, который ведет себя не слишком подобающим образом…
Бедный Жюбер! Мы потеряли его из виду почти сразу же, так же, как и всех этих господ из Управления мостов и дорог, кроме дяди Леонара.
Долгие годы я не знал, что сталось с Жюбером. Мне было около пятидесяти лет, когда в Марселе, на бульваре Канебьер, я зашел в аптеку, чтобы купить аспирин. Название аптеки я не прочел. И вдруг услышал возглас:
– Мегрэ!
– Жюбер!
– Чем ты занимаешься? Хотя что за глупый вопрос я задаю, я и так все давно знаю из газет. Как Луиза?
Затем он принялся рассказывать о своем старшем сыне, который, по иронии судьбы, готовился сдавать экзамены в Национальную школу мостов и дорог.
После исчезновения Жюбера вечера на бульваре Бомарше собирали все меньше и меньше народу, и теперь совсем некому было играть на рояле. От случая к случаю за инструмент садилась Луиза, а я переворачивал страницы нот, в то время как одна или две пары танцевали в столовой, сразу ставшей слишком большой.
Мне кажется, я так и не спросил Луизу, согласна ли она выйти за меня замуж. Большую часть времени мы говорили о моей карьере, о полиции, о профессии инспектора.
Я сообщил ей, сколько буду зарабатывать, когда меня наконец-то возьмут на набережную Орфевр, и добавил при этом, что, скорее всего, это случится не раньше чем через три года, а в данный момент моего жалованья недостаточно, чтобы завести достойный дом.
Я также рассказал ей о двух или трех встречах с Ксавье Гишаром, который уже в те времена был большим начальником и который не забыл моего отца, поэтому начал в той или иной степени меня опекать.
– Не знаю, любите ли вы Париж. Как вы понимаете, я буду вынужден провести в Париже всю свою жизнь.
– Но ведь и здесь можно жить спокойно, как в провинции, не правда ли?
И вот наконец однажды в пятницу я не обнаружил на бульваре Бомарше ни одного гостя, а дверь мне открыла сама Жеральдина в наряде из черного шелка. Когда она приглашала меня в дом, ее голос прозвучал как-то торжественно:
– Войдите!
Луизы в гостиной не было. Не было ни подноса с пирожными, ни прохладительных напитков. В город пришла весна, и потому огонь в камине не горел. Казалось, что я явился не ко времени, и стоял со шляпой в руке, стесняясь своего фрака и лакированных туфель.
– Скажите мне, молодой человек, каковы ваши намерения?
Вероятно, это был один из самых тягостных моментов моей жизни. Голос Жеральдины показался мне сухим и суровым. Я не осмеливался поднять глаза и видел лишь ковер в цветных узорах, подол черного платья и выглядывающие из-под него остроносые туфли. Мои уши покраснели.
– Я клянусь вам… – пробормотал я.
– Я не прошу вас клясться. Я спрашиваю, намерены ли вы жениться.
Я наконец посмотрел на нее – и обнаружил, что никогда ранее не видел на лице старой женщины выражения подобного ласкового лукавства.
– Да, конечно!
Кажется – и мне не раз рассказывали об этом впоследствии, – я выпрямился, как оловянный солдатик, и произнес как можно громче:
– Конечно!
В третий раз я почти кричал:
– Конечно, поверьте мне!
Жеральдина все тем же ровным голосом позвала:
– Луиза!
И моя будущая жена, которая стояла за приоткрытой дверью, робко вошла в комнату, такая же пунцовая, как и я сам.
– Ну, что я тебе говорила? – спросила тетя.
– Но почему? – вмешался я. – Неужели она не верила?
– Я не была уверена. Это тетя…
Но давайте опустим продолжение, иначе, я совершенно убежден, моя семейная цензура не пропустит этот эпизод.
Я должен лишь отметить, что старик Леонар проявил куда меньше энтузиазма: он так и не смог простить мне, что я не принадлежу к Управлению мостов и дорог. Очень дряхлый, почти столетний старец, прикованный к креслу многочисленными недугами, глядя на меня, всегда качал головой, как будто бы что-то сломалось в механизме мироздания.
– Вам необходимо взять отпуск, чтобы съездить в Кольмар. Что вы думаете насчет пасхальных каникул?
Именно старая Жеральдина взяла на себя труд написать родителям Луизы. Она отослала не одно письмо («чтобы смягчить удар», как она сама говорила), сообщая последние новости.
На Пасху я смог выпросить лишь сорок восемь часов отпуска. Большую их часть я провел в поездах, которые значительно уступали в скорости сегодняшнему транспорту.
Меня приняли весьма учтиво, но без излишнего восторга.
– Лучшее средство узнать, насколько серьезны ваши чувства, – это побыть некоторое время на расстоянии друг от друга. Луиза останется дома на все лето. Осенью вы снова приедете к нам.
– Мне будет разрешено ей писать?
– Не слишком настойчиво. Например, раз в неделю.
В наши дни все это кажется смешным. Но в те времена многое было по-другому.
Я пообещал себе – и в этом не таилось никакой скрытой жестокости – пригласить Жюбера шафером. Но когда я отправился в аптеку на бульваре Сен-Мишель, чтобы встретиться с приятелем, его там не оказалось, и никто не знал, куда он уехал.
Значительную часть лета я провел в поисках жилья и в конечном итоге нашел квартиру на бульваре Ришар-Ленуар.
– Это временно, пока мы не подыщем что-нибудь получше, понимаешь? Когда я получу должность инспектора…
Глава 5
В которой речь идет обо всем понемногу: о кованых ботинках, об апашах, о проститутках, о душниках, об улицах и вокзалах
Несколько лет тому назад кое-кто из сотрудников завел речь о том, что было бы неплохо основать нечто вроде клуба или хотя бы устраивать ежемесячный ужин, который следовало бы назвать «Ужин кованых ботинок». В результате мы собрались на аперитив в ресторане «Дофин». Долго спорили, чтобы определить, кого следует, а кого не следует допускать в клуб. Всерьез обсуждали, имеют ли право сотрудники другого ведомства (я имею в виду людей с улицы Соссэ) называться «нашими».
После чего, как и следовало ожидать, все осталось по-прежнему. В ту пору среди нас было четыре комиссара криминальной полиции, кто гордился прозвищем «кованые ботинки», которым некогда наделил нас один куплетист и которое молодые инспекторы, едва закончившие школу, использовали в общении между собой, говоря о старых служаках, начинавших рядовыми полицейскими.