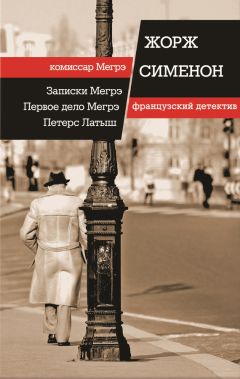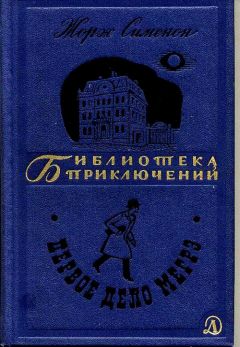Прежде фамилии постояльцев заносились в регистрационные книги. Позднее, когда были введены обязательные удостоверения личности, появились карточки, требующие заполнения.
Один из нас оставался внизу. Второй отправлялся наверх. Иногда, несмотря на все принятые меры предосторожности, кто-то подавал сигнал, и уже на первом этаже мы слышали, как дом пробуждается, словно растревоженный улей. В комнатах начиналась беготня, на лестнице раздавались крадущиеся шаги.
Нам случалось обнаруживать пустую комнату, постель, еще хранящую тепло человеческого тела, и открытое слуховое окно, выходящее на крышу.
Обычно нам все же удавалось добраться до второго этажа, не потревожив постояльцев. И тогда мы стучали в первую дверь, за которой слышалось недовольное ворчание и вопросы на иностранном языке.
– Полиция!
Это слово понятно всем. Люди в ночных рубашках, а порой и совершенно голые – мужчины, женщины, дети – метались в плохо освещенном помещении, пропитанном отвратительным запахом, расстегивали неправдоподобно большие чемоданы, чтобы разыскать паспорт, спрятанный среди вещей.
Надо видеть это беспокойство, застывшее во взглядах, эти жесты сомнамбул и эту покорность, которую можно встретить только среди изгнанников, утративших связь с родиной. Можно ли назвать покорность «гордой»?
Они не испытывали к нам ненависти. Мы были хозяевами. Мы обладали – или они полагали, что обладаем, – самым страшным полномочием: отправить их обратно через границу.
Некоторым, чтобы попасть в нашу страну, потребовались годы изощренной хитрости или смиренного терпения. Они достигли земли обетованной. У них были документы, настоящие или поддельные.
Они протягивали нам эти документы, всегда опасаясь, что мы уберем их в карман. Они инстинктивно пытались задобрить нас, заискивающе улыбались и бормотали несколько с трудом заученных французских слов:
– Месье комиссар…
Женщины почти не испытывали чувства стыдливости, в их взглядах отчетливо читалось колебание, а затем неловкое, едва уловимое движение в сторону смятой постели. Неужели мы не соблазнимся? Неужели это не доставит нам удовольствия?
Однако все эти люди были горды, но я никогда не сумею описать подобную гордость. Гордость дикого зверя?
На самом деле они и вправду напоминали диких зверей, запертых в клетку. Они смотрели на нас, как звери, не зная, ударим мы их или погладим.
Иногда, охваченный паникой, один из них принимался размахивать документами, что-то лепетать скороговоркой на своем языке, жестикулировать, призывая на помощь своих соотечественников, стараясь убедить нас, что он – честный человек, что его внешность обманчива, что…
Некоторые плакали, другие сжимались в комочек в углу, напряженные, будто бы готовые к прыжку, но рано или поздно всегда смирявшиеся.
Проверка личности. Именно так называлась эта процедура на казенном языке. Те, чьи документы оказывались в порядке и не вызывали никаких сомнений, оставались в своих комнатах и закрывали двери со вздохом облегчения.
Остальные…
– Спускайтесь!
Если они не понимали, мы сопровождали слова красноречивым жестом. И они одевались, продолжая что-то бормотать. Они не знали, что должны делать, что из вещей можно взять с собой. Порой, когда мы поворачивались спиной к задержанным, они бросались к тайнику, чтобы забрать свои «сокровища» и спрятать их в карманах или под рубашкой.
В конце концов на первом этаже собиралась небольшая группа иммигрантов, и никто уже не произносил ни слова: каждый теперь думал лишь о себе, о том, как ему защищаться.
В квартале Сен-Антуан существовали гостиницы, где в одной комнате мне случалось обнаружить семь или восемь поляков, большая часть из которых спала прямо на полу.
В регистрационной книге был записан лишь один из них. Знал ли хозяин гостиницы обо всех остальных? Заставлял ли он платить за ночлег каждого из них? По всей вероятности, да, но подобные нарушения почти невозможно доказать.
У незарегистрированных, как и следовало ожидать, документов не оказывалось. Что они делали, когда наступающий день вынуждал их покидать комнату?
Не имея удостоверений, дающих право на работу по найму, они не могли получать регулярную зарплату. Но при этом не умирали с голоду. Следовательно, они что-то ели.
И подобных им насчитывались тысячи, десятки тысяч.
А если мы обнаруживаем деньги у них в карманах, или спрятанными в шкафу, или, что чаще всего, в ботинках? Следовательно, нам необходимо узнать, откуда они взяли эти деньги, а это значит, что неизбежен изнуряющий допрос.
Даже если они понимают французский язык, то притворяются, что не слышат вопросов; они смотрят вам прямо в глаза и кажутся олицетворением доброй воли и желания сотрудничать, и при этом неутомимо твердят о своей невиновности.
Их соотечественников допрашивать бесполезно. Своих они не выдадут. Они будут рассказывать одну и ту же историю.
Однако около шестидесяти пяти процентов преступлений, зафиксированных в парижском округе, совершаются иностранцами.
Лестницы, лестницы и снова лестницы. Мы бегаем по ним не только ночью, но и днем, повсюду натыкаясь на продажных девиц – профессиональных проституток и просто роскошных юных особ, покинувших, бог знает почему, родные страны.
Я знавал одну польку, которая делила с пятью мужчинами номер гостиницы на улице Сен-Антуан. Она постоянно подбивала их на воровство и по-своему вознаграждала тех, кто возвращался с добычей; в это время остальные мужчины, находившиеся тут же, в комнате, с трудом сдерживали ярость, и чаще всего впоследствии набрасывались на обессилевшего счастливчика.
Двое из поляков были огромными, мощными детинами, но их подружка нисколько не боялась соотечественников и управляла ими лишь при помощи улыбок или нахмуренных бровей. Однажды во время допроса, в моем собственном кабинете, я даже не знаю после какой фразы, произнесенной на родном языке, полька преспокойно отвесила пощечину одному из гигантов.
– Вы много чего повидали на своем веку!
Да, я действительно много чего видел: совершенно разных мужчин и женщин, в самых невероятных ситуациях, стоящих на самых разных ступенях социальной лестницы. Видел, записывал, пытался понять.
Но понять не какую-то великую общечеловеческую тайну. Подобная романтическая идея вызывает у меня протест, даже ярость. И это одна из причин, по которой я взялся за перо, желая внести определенную ясность.
Надо признать, что Сименон тоже пытался это объяснить. Но, тем не менее, я чувствовал себя неловко, когда читал в его книгах о некоторых «моих» улыбках, «моем» поведении, которые мне совершенно не свойственны и которые заставили бы моих коллег недоуменно пожимать плечами.
Должно быть, лучше остальных это чувствует моя жена, однако, когда я возвращаюсь с работы домой, она не задает лишних вопросов, какое бы дело я ни вел.
Что касается меня, то я тоже не лезу с откровениями.
Я сажусь за обеденный стол, как любой другой служащий, вернувшийся из конторы. Случается, что я коротко, как бы между прочим, рассказываю о встрече, об опросе, о мужчине или женщине, которых я допрашивал.
И тогда мадам Мегрэ задает вопрос, чаще всего касающийся практической стороны дела.
– В каком квартале?
Или:
– Сколько лет?
Или:
– Как давно она живет во Франции?
Потому что все эти детали со временем стали для нее столь же показательны, сколь и для нас.
Она никогда не расспрашивает меня о побочных обстоятельствах, какими бы гнусными или бередящими душу они ни были. И Бог знает, это не проявление равнодушия!
– А жена навещала его в камере предварительного заключения?
– Сегодня утром.
– Она взяла с собой ребенка?
Мадам Мегрэ уделяет особое внимание тем моим подследственным, у которых есть дети. О причинах этого я не хотел бы упоминать. Было бы ошибочно думать, что у людей, живущих вне закона, у злоумышленников или преступников, нет детей.
Мы приютили у себя маленькую девочку, чью мать я отправил за решетку – ей предстояло провести в тюрьме весь остаток своих дней, – но мы знали, что отец заберет ребенка, как только вернется к нормальной жизни.
Она и сейчас навещает нас. Малышка превратилась в симпатичную девушку, и моя жена с гордостью водит ее по магазинам.
Я еще раз хочу подчеркнуть, что мы не испытываем к нашим подопечным никаких сентиментальных чувств – ни ненависти, ни отвращения, ни жалости – в обычном понимании этого слова.
Мы работаем с людьми. Мы наблюдаем за их поведением. Фиксируем определенные факты. Пытаемся узнать новые детали.
В какой-то степени наши знания можно назвать «техническими».
Будучи еще молодым, я обшарил от подвала до чердака одну подозрительную гостиницу, заходил в каждую комнатушку и заставал там спящих людей, представавших предо мной во всей своей беззащитности; я рассматривал с лупой их документы и мог сказать почти каждому, что ждет его в будущем.