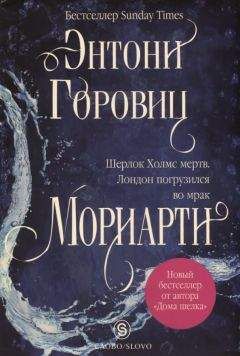– Я открыл окно, – сказал он.
– Слава богу, что вы действуете на стороне полиции, а не против нее, мистер Холмс, – заметил инспектор, когда разглядел, каким остроумным способом мой друг оттянул щеколду. – Так! Полагаю, при сложившихся обстоятельствах можно войти, не дожидаясь приглашения.
Мы один за другим прошли в большую залу – по-видимому, ту самую, в которой побывал мистер Мэлас. Инспектор зажег свой фонарь, и мы увидели две двери, портьеры, лампу и комплект японских доспехов, как нам их описали. На столе стояли два стакана, пустая бутылка из-под коньяка и остатки еды.
– Что такое? – вдруг спросил Шерлок Холмс.
Мы все остановились, прислушиваясь. Где-то наверху, над нашими головами, раздавались как будто стоны. Холмс бросился к дверям и прямо в холл. Вдруг сверху отчетливо донесся вопль. Холмс стремглав взбежал по лестнице, а я с инспектором – за ним по пятам. Брат его Майкрофт поспешал, насколько позволяло его грузное сложение.
Три двери встретили нас на площадке второго этажа, и эти страшные стоны раздавались за средней; они то затихали до глухого бормотания, то опять переходили в пронзительный вопль. Дверь была заперта, но снаружи торчал ключ. Холмс распахнул створки, кинулся вперед и мгновенно выбежал вон, схватившись рукой за горло.
– Угарный газ! – вскричал он. – Подождите немного. Сейчас он уйдет.
Заглянув в дверь, мы увидели, что комнату освещает только тусклое синее пламя, мерцающее в маленькой медной жаровне посередине. Оно отбрасывало на пол круг неестественного, мертвенного света, а в темной глубине мы различили две смутные тени, скорчившиеся у стены. В раскрытую дверь тянуло страшным ядовитым чадом, от которого мы задыхались и кашляли. Холмс взбежал по лестнице на самый верх, чтобы вдохнуть свежего воздуха, и затем, ринувшись в комнату, распахнул окно и вышвырнул горящую жаровню в сад.
– Через минуту нам можно будет войти, – прохрипел он, выскочив опять на площадку. – Где свеча? Вряд ли мы сможем зажечь спичку в таком угаре. Ты, Майкрофт, будешь стоять у дверей и светить, а мы их вытащим. Ну, идем, теперь можно!
Мы бросились к отравленным и выволокли их на площадку. Оба были без чувств, с посиневшими губами, с распухшими, налитыми кровью лицами, с глазами навыкате. Лица их были до того искажены, что только черная бородка и плотная короткая фигура позволили нам опознать в одном из них грека-переводчика, с которым мы расстались только несколько часов тому назад в «Диогене». Он был крепко связан по рукам и ногам, и над глазом у него был заметен след от сильного удара. Второй оказался высоким человеком на последней стадии истощения; он тоже был связан, и несколько лент лейкопластыря исчертили его лицо причудливым узором. Когда мы его положили, он перестал стонать, и я с одного взгляда понял, что здесь помощь наша опоздала. Но мистер Мэлас был еще жив, и, прибегнув к нашатырю и бренди, я менее чем через час с удовлетворением убедился, увидев, как он открывает глаза, что моя рука исторгла его из темной долины, где сходятся все стези.
То, что он рассказал нам, было просто и только подтвердило наши собственные выводы. Посетитель, едва войдя в его комнату на Пэл-Мэл, вытащил из рукава налитую свинцом дубинку и под угрозой немедленной и неизбежной смерти сумел вторично похитить его. Этот негодяй с его смешком производил на злосчастного полиглота какое-то почти магнетическое действие; даже и сейчас, едва он заговаривал о нем, у него начинали трястись руки, и кровь отливала от щек. Его привезли в Бэккенхэм и заставили переводить на втором допросе, еще более трагическом, чем тот, первый: англичане грозились немедленно прикончить своего узника, если он не уступит их требованиям. В конце концов, убедившись, что никакими угрозами его не сломить, они уволокли его назад в его тюрьму, а затем, выбранив Мэласа за его измену, раскрывшуюся через объявления, оглушили его ударом дубинки, и больше он ничего не помнил, пока не увидел наши лица, склоненные над ним.
Такова необычайная история с греком-переводчиком, в которой еще и сейчас многое покрыто тайной. Снесшись с джентльменом, отозвавшимся на объявление, мы выяснили, что несчастная девица происходила из богатой греческой семьи и приехала в Англию погостить у своих друзей. В их доме она познакомилась с молодым человеком по имени Гарольд Латимер, который приобрел над ней власть и в конце концов склонил ее на побег. Друзья, возмущенные ее поведением, дали знать о случившемся в Афины ее брату, но тем и ограничились. Брат, прибыв в Англию, по неосторожности очутился в руках Латимера и его сообщника по имени Уилсон Кэмп – человека с самым грязным прошлым. Эти двое, увидев, что, не зная языка, он перед ними совершенно беспомощен, пытались истязаниями и голодом принудить его перевести на них все свое и сестрино состояние. Они держали его в доме тайно от девушки, а пластырь на лице предназначался для того, чтобы сестра, случайно увидев его, не могла бы узнать. Но хитрость не помогла: острым женским глазом она сразу узнала брата, когда впервые увидела его – при том первом визите переводчика. Однако несчастная девушка была и сама на положении узницы, так как в доме не держали никакой прислуги, кроме кучера и его жены, которые были оба послушным орудием в руках злоумышленников. Убедившись, что их тайна раскрыта и что им от пленника ничего не добиться, два негодяя бежали вместе с девушкой, отказавшись за два-три часа до отъезда от снятого ими дома с полной обстановкой и успев, как они полагали, отомстить обоим: человеку, который не склонился перед ними, и тому, который посмел их выдать.
Несколько месяцев спустя мы получили любопытную газетную вырезку из Будапешта. В ней рассказывалось о трагическом конце двух англичан, которые путешествовали в обществе какой-то женщины. Оба были найдены заколотыми, и венгерская полиция держалась того мнения, что они, поссорившись, смертельно ранили друг друга. Но Холмс, как мне кажется, склонен был думать иначе. Он и по сей день считает, что если б разыскать ту девушку-гречанку, можно было б узнать от нее, как она отомстила за себя и за брата.
C тяжелым сердцем я приступаю к последним строкам этих записей, повествующих о необыкновенных талантах друга моего, мистера Шерлока Холмса. Признаться, я хотел умолчать о событии, оставившем такую пустоту в моей жизни, что я ничем не мог ее заполнить, хотя с тех пор прошло уже два года. Но меня вынудили взяться за перо последние письма полковника Джеймса Мориарти, в которых он защищает память своего покойного брата. Я счел своим долгом изложить перед публикой все события так, как они происходили в действительности. Одному мне известна вся правда, и я рад, что настало время, когда уже нет причин скрывать ее.
Насколько мне известно, в газеты попало только три сообщения: заметка в «Журналь де Женев»[17] от 6 мая 1891 года, телеграмма агентства Рейтер[18] в английской прессе от 7 мая и, наконец, недавние письма, о которых упомянуто выше. Из этих писем первое и второе чрезвычайно сокращены, а последнее – как я сейчас докажу – искажает подлинные факты. Моя обязанность поведать наконец миру о том, что действительно произошло между профессором Мориарти и мистером Шерлоком Холмсом.
Читатель, может быть, помнит, что сразу после моей женитьбы очень близкие отношения, существовавшие между мной и Холмсом, несколько изменились. Я занялся частной врачебной практикой. Он продолжал время от времени заходить ко мне, когда нуждался в спутнике для своих расследований, но это случалось все реже и реже, а в 1890 году я написал только три отчета о его приключениях.
Зимой этого года и в начале весны 1891-го газеты писали о том, что Холмс приглашен французским правительством по чрезвычайно важному делу, и из полученных от него двух писем – из Нарбонна и Нима – я заключил, что, по-видимому, его пребывание во Франции сильно затянется. Поэтому я был несколько удивлен, когда вечером 24 апреля он внезапно появился у меня в кабинете. Мне сразу бросилось в глаза, что он еще более бледен и худ, чем обычно.
– Да, я порядком истощил свои силы, – сказал он, отвечая скорее на мой взгляд, чем на слова. – В последнее время мне приходилось трудновато… Что, если я закрою ставни?
Комната была освещена только настольной лампой, при которой я обычно читал. Осторожно двигаясь вдоль стены, Холмс обошел всю комнату, захлопывая ставни и тщательно замыкая их засовами.
– Вы чего-нибудь боитесь? – спросил я.
– Да, боюсь.
– Чего же?
– Духового ружья[19].
– Дорогой мой Холмс, что вы хотите этим сказать?
– Мне кажется, Уотсон, вы достаточно хорошо меня знаете, и вам известно, что я не робкого десятка. Однако не считаться с угрожающей тебе опасностью – это скорее глупость, чем храбрость. Дайте мне, пожалуйста, спичку.