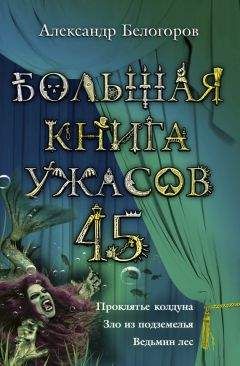Дональд Уэстлейк
Дайте усопшему уснуть
И ежели кто извлечет из могилы и ограбит погребенного покойника, да будет сей человек объявлен вне закона доколе не заключит мировую с родными усопшего, и не попросят они за него, дабы опять допущен он был к людям.
Салический закон, ст. 490
Все ужасное вызывает у меня смех. Однажды я оконфузился на похоронах.
Чарлз Лэм
У Энгеля болели колени. Он уже двенадцать лет не бывал в церкви и успел отвыкнуть. Войдя в храм, он и сам не заметил, как оказался коленопреклоненным на жестком дощатом полу. Вскоре коленные чашечки начало жечь, будто огнем, а потом боль расползлась по ногам от бедер до лодыжек. Энгель был уверен, что какая-нибудь кость уже сломана и он больше никогда не сможет ходить.
Слева от Энгеля поперек прохода стоял гроб с телом Чарли Броди, прикрытый черной тканью с вышитым по ней золотом крестом. Выглядел он довольно причудливо, и в голове Энгеля родился дурацкий стишок:
Чарли Броди дуба дал,
Чарли в ящичек сыграл.
Чарли в ящичке лежит,
В ус не дует, не тужит.
Стишок показался Энгелю забавным, и он едва заметно улыбнулся, но потом боковым зрением перехватил взгляд рыбьих глаз Ника Ровито и опять напустил на себя печальный вид. В этот миг левая коленка заболела особенно сильно, и на лице Энгеля появилось выражение, которое наверняка вполне устроило бы Ника Ровито. Энгель оперся руками о спинку церковной скамьи и спросил себя, долго ли еще протянется эта комедия.
В каком-то смысле церемония вообще была излишеством, поскольку Чарли Броди отбросил коньки не на работе, его не застрелили и не прирезали. Всего-навсего сердечный приступ. Правда, приступ случился, когда Чарли кипятил воду, чтобы выпить растворимого кофе, и он упал головой на горящую конфорку, поэтому выглядел ничуть не лучше, чем если бы его и впрямь пришили. Оттого и отпевали Чарли в закрытом гробу, и прощания с телом не было. Но все равно, в старые добрые времена такие пышные похороны устраивали только большим шишкам или парням, погибшим при исполнении служебных обязанностей, а Чарли Броди был чуть ли не обыкновенной шпаной, простым посыльным, связным между нью-йоркской организацией и поставщиками из Балтимора. Но он умер. И стал первым за три или четыре года деятелем организации, который отправился в мир иной. Когда Ник Ровито услышал об этом, он начал потирать руки и глаза его заблестели. И он сказал. «Давайте проводим Чарли Броди с почестями. Проводим, вы меня поняли?» Остальные ребята, которые тогда сидели за столом, все как один заулыбались и ответили: «Еще бы, старый добрый Чарли Броди заслужил шикарные похороны». Но было видно, что им плевать на старого доброго Чарли Броди. Они думали о самих похоронах, а вовсе не о человеке, которого надо было похоронить.
Энгеля только недавно стали допускать на совещания, поэтому он почти ничего в тот день не сказал, хотя и ему пришлась по нраву мысль о роскошных проводах в последний путь. В организацию он тоже вступил недавно, когда эпоха пышных похорон уже кончилась, и у него, естественно, не сохранилось никаких воспоминаний о ней, но Энгель помнил рассказы отца, слышанные в детстве. «Шикарно проводили! — говаривал, бывало, отец. — Народищу в церкви было битком, а на улице толпилось пять тысяч человек. И легавые на лошадях. Все пришли — и мэр, и главный санитарный врач, и еще черт-те кто. Шикарные были похороны!»
Отец Энгеля занимал не ахти какое высокое положение в организации. Во всяком случае, сидячего места на пышных похоронах ему не выделяли. Зато он частенько бывал в рядах той самой пятитысячной толпы на улице перед церковью. На его собственных похоронах три года назад присутствовало всего двадцать семь человек, и среди них не было ни одной большой шишки, кроме Людвига Мейершута, под началом которого Энгель-старший вкалывал восемнадцать лет.
И вот, поди ж ты, в глазах у мальчиков появился ностальгический блеск, и они решили проводить Чарли Броди в последний путь с шиком, помпой и всеми остановками, как встарь. Поэтому Ник Ровито потер руки и, помнится, сказал: «Позвоните в храм Святого Патрика». А кто-то из сидевших за столом ответил ему: «Ник, по-моему, Чарли не был католиком». Тут уж Ник Ровито рассердился: «Какая, на фиг, разница, кем был Чарли? — заявил он. — Ни в одном храме не отпевают так, как в католическом. Или вы хотите, чтобы вокруг сидела шайка квакеров с угрюмыми мордами, которая обквакает нам всю малину?»
Такого никто не хотел, и Чарли решили спровадить по католическому обычаю, с песнопениями по-латыни, с прекрасными декорациями, с терпким ладаном, с потоками святой воды — словом, по всей форме. Заупокойная служба состоялась не в храме святого Патрика, который уже был снят в аренду, а в бруклинском соборе, почти таком же большом, да еще и расположенном ближе к кладбищу.
Эх, сумей только Энгель предвидеть, что заболят коленки, он бы сказался больным, и пусть кто-нибудь другой тащил бы гроб.
Впрочем, служба медленно, но верно приближалась к концу. Ник Ровито встал, а вслед за ним поднялись с колен еще пятеро тех, кому было доверено нести гроб. Колени Энгеля громко хрустнули, и звук эхом отразился от каменной стены храма. Ник Ровито снова бросил на Энгеля свой рыбий взгляд, но разве Энгель мог что-то поделать? Разве от него зависело, хрустнут колени или нет?
Ноги так затекли, что он на миг испугался: а вдруг не сможет идти? Их кололо иголками сверху донизу, как при нарушении кровообращения. Энгель немного размял их, сделав несколько неглубоких приседаний, но потом спохватился, что стоит едва ли не в первом ряду, на виду у всех. Энгель быстро выпрямился и шагнул в проход следом за остальными.
Он шел последним с левой стороны. На мгновение все повернулись спиной к алтарю, и Энгель увидел теснящуюся в церкви толпу. Не считая тайных агентов ФБР, тайных агентов комитета по уголовной преступности, тайных агентов казначейства, тайных агентов подразделения по борьбе с наркотиками, не считая газетчиков, теле- и радиорепортеров, фотографов и обозревательниц женских журналов, пишущих житейские истории, тут собралось человек четыреста, приглашенных Ником Ровито.
Мэра не было, но он прислал вместо себя председателя жилищной комиссии. Кроме того, было трое конгрессменов, выбившихся из рядов организации и представлявших ее интересы в Вашингтоне; было несколько певиц и комиков, которые продались организации и прикрывали собой ее ночные клубы и рестораны; была и целая куча адвокатов в очень старомодных костюмах, и врачи, по обыкновению толстые и угрюмые, и несколько доброхотов из Министерства здравоохранения, образования и соцобеспечения, и чиновники телевизионных и рекламных компаний, которые вовсе не знали Чарли Броди, но водили дружбу с Ником Ровито, и еще много всяких видных людей. Толпа выглядела представительно, и Чарли Броди был бы польщен, имей он возможность лицезреть ее.
Ник Ровито, стоявший впереди справа, кивнул, и пятеро остальных, включая Энгеля, нагнулись, чтобы запустить руки под черный покров и взяться за ручки гроба Выпрямившись, они подняли гроб на плечи. Один из возглавлявших шествие проворно откатил прочь козлы, на которых стоял гроб, чтобы их не было видно на газетных снимках, и процессия направилась по проходу; ее озаряли вспышки многочисленных фотоаппаратов. Энгель был самым долговязым из носильщиков, и на него пришлась основная тяжесть. Гроб подскакивал и елозил на плече, и Энгель забыл о боли в коленях.
Они медленно шествовали сквозь печальную торжественную толпу, погруженную в размышления о жизни, смерти и вечности, равно как и о том, угораздит ли какого-нибудь дурака-фотографа сделать снимок для газеты. Ник Ровито предупредил газетчиков, что снимать можно только гроб, но кто знает? Миновав толпу, шествие оказалось на залитой солнцем паперти и направилось по пологим ступеням вниз, к катафалку.
Зрелище и впрямь было внушительное. Протянутые через тротуары канаты не пускали зевак; вдоль канатов стояли полицейские в блестящих белых шлемах. А за канатами — море народу в гавайских рубахах и бермудских шортах. Вид этой толпы навел Энгеля на мысль о фруктовом соке, мысль о соке, в свою очередь, напомнила о жажде, а жажда — о неодолимом желании закурить. Ну ладно, потерпим.
Энгель знал, что где-то в толпе — его мать, которая, вероятно, подпрыгивает и размахивает «Дейли ньюс», чтобы привлечь его внимание. Поэтому, метнув на зевак быстрый взгляд, Энгель уставился на катафалк и больше уже не смотрел по сторонам. Он и так чувствовал легкую боязнь сцены, поэтому увидеть еще и скачущую матушку с газетой было бы для него слишком. Энгель знал, что мать гордится сыном: ведь он далеко переплюнул отца, который до гробовой доски оставался всего лишь владельцем лавочки, где нелегально принимались ставки на лошадей, и заправлял азартными играми на Вашингтонских Холмах. Но он еще успеет наглядеться на маму и наслушаться ее похвал.