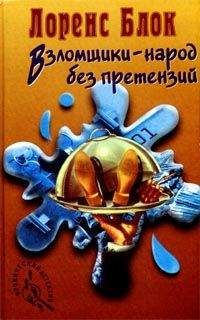Жизнь без женщин. Без гибких и прохладных рук. Без круглых, упругих поп. (Правда, бывают мужчины с круглыми, упругими попами, если вы любитель таких вещей. Но я к ним не отношусь.)
— Берни, что, если мне пойти в полицию?
— И выдать меня? Какой смысл? Вознаграждение не объявлено.
— О чем ты говоришь?! С какой стати мне выдавать тебя? Ты просто спятил!
— Есть немного. А зачем еще ходить в полицию?
— Я знаю, у них есть альбом с карточками преступников. Я могла бы сказать, что меня хотели ограбить, и попросила бы показать их мне.
— Зачем?
— Может быть, я узнала бы его.
— Как? Ты же его ни разу не видела!
— Ты так хорошо его описал, что мне кажется, будто видела.
— В таких альбомах только «будку» увидишь.
— Чего?
— Это когда лицо только спереди снимают. Профиль не показывают.
— А-а...
— Нет, в полицию идти — пустой номер.
— Пожалуй, ты прав, Берни.
Я перевернул ее руку, похлопал по ладошке. Она придвинулась ко мне. Мы просидели молча несколько минут. Я уже собирался обнять ее. Но не успел я шевельнуть рукой, как она поднялась с места.
— Надо же что-то делать! — сказала она. — Мужчина, который втравил тебя в эту историю... Если бы мы хотя бы имя его знали. Уже кое-что.
— Или знали бы, кому понадобилось прикончить Флэксфорда. У того, кто его убил, должна была быть веская причина. Но мы не знаем ни убийцу, ни его мотивов.
— Да, но полиция...
— В глазах полиции убийца — я. Даже следствия не будет. Закроют дело. Бернард Роденбарр виновен, и точка. Им остается только взять меня. Процедура отработана до совершенства. Не исключено, что в мире есть только один человек, у которого были основания рассчитаться с Флэксфордом, но об этом никто никогда не узнает, так как данное дело, где фигурирую я, уже закончено, пронумеровано, перевязано ленточкой и сдано в архив.
— Думаю, мне стоит сходить в библиотеку. Просмотреть микрофильм указателя по «Нью-Йорк таймс». Может быть, о нем когда-нибудь писали.
Я покачал головой:
— Если бы в биографии Флэксфорда было что-нибудь пикантное, журналисты давно бы раскопали. И в некрологе было бы упоминание.
— И все-таки можно найти какую-нибудь зацепку. Попытка не пытка.
— Что верно, то верно.
Рут прошлась взад-вперед по комнате, потом еще раз и еще, всем своим видом напоминая разъяренную львицу в клетке.
— Не могу я сидеть сложа руки! — воскликнула она. — От этого с ума можно сойти.
— Тебе вряд ли понравилось бы в тюрьме.
— Господи! И как только люди выдерживают!
— День прошел, и слава Богу. Так и выдерживают, — сказал я. — Конечно, сейчас нам стоило бы куда-нибудь закатиться, но...
— Никаких «закатиться»! Нечего тебе рисковать. — Она взяла первую попавшуюся газету и стала листать. — Может быть, по телеку что-нибудь интересное. — Оказалось, что по одному из каналов только что начался гангстерский боевик производства «Братьев Уорнер». В нем собрали целое созвездие актеров — Робинсона, Лорри, Грин-стрит и кучу других старых знаменитостей, чьи имена я никогда не мог запомнить, но чьи лица врезались мне в память. Мы уселись на диване и просмотрели весь фильм. Я притянул ее к себе, а во время рекламных пауз мы даже обнялись несколько раз.
Когда последний злодей получил по заслугам и пошли заключительные титры, она сказала:
— Вот видишь, плохие люди всегда в конце концов проигрывают. Так что нечего волноваться.
— Жизнь, — напыщенно сказал я, — не кино. Тем более второсортное.
— Да, но она и не нескончаемый эпос, как у де Милля, сэр. Рано или поздно все образуется.
— Будем надеяться.
Потом начали передавать одиннадцатичасовые новости, и мы терпеливо ждали, когда диктор дойдет до интересующего нас происшествия. Однако никакой дополнительной информации об убийстве Флэксфорда не было. Готовившие выпуск ограничились пересказом того, что было показано и рассказано несколько часов назад. А когда репортер начал говорить о том, как где-то на Хантс-пойнт полиция накрыла шайку торговцев наркотиками, Рут встала и выключила телевизор.
— Я, пожалуй, пойду, — сказала она.
— Куда?
— Домой.
— И где ты живешь?
— На Бэнк-стрит. Это недалеко отсюда.
— Не хочешь остаться? Может, еще что-нибудь стоящее по ящику покажут.
— Честно говоря, я устала. Рано встала сегодня.
— Могла бы... гм... и здесь поспать, — неуверенно настаивал я. — Места хватит.
— Не стоит, Берни.
— Как ты пойдешь одна? Не хочется отпускать тебя в такую поздноту.
— Еще двенадцати нет. А этот район — один из самых спокойных.
— С тобой хорошо.
Она улыбнулась:
— Правда, мне сегодня нужно домой. Принять душ, переодеться... М-м...
— И что еще?
— Кошек еще надо накормить. Бедняги, наверно, умирают с голода.
— Неужели сами не могут открыть банку с едой?
— Что ты! Они у меня ужасно избалованные, Эстер и Мордехай. Они абиссинской породы.
— Почему же у них имена еврейские?
— А как бы ты их назвал? Хайле и Селассие?
— Тоже верно.
Я проводил ее до дверей. Уже взявшись за ручку, она обернулась, и мы поцеловались. Это было здорово! Мне не хотелось, чтобы она уходила, да и она, вздохнув, прильнула ко мне. Я отпустил ее. Она открыла дверь.
— До завтра, Берни, — сказала. И ушла.
Пассажиров в метро было мало, раз-два — и обчелся. Я спустился к платформам на углу Четырнадцатой улицы и Восьмой авеню и сел в поезд, идущий к Верхнему Манхэттену. Помимо меня, в вагоне оказался только один пассажир, и это радовало. Огорчало, что этим пассажиром был детина из транспортной полиции с огромным револьвером в кобуре. Он уставился на меня, потому что больше было не на кого. Я знал, что он силится сообразить, почему ему знакома моя физиономия. В любую минуту на него могло сойти просветление, и тогда он кинется действовать.
Этого не случилось. На Таймс-сквер в вагон вошли еще пассажиры: две медсестры, окончившие дежурство, и доходяга из наркоманов. Внимание полицейского переключилось на него, а на Пятьдесят девятой он и вовсе сошел. На следующей остановке, где Семьдесят вторая упирается в Западную улицу Центрального парка, сошел и я. Поднявшись по лестнице, я выбрался на свежий, предрассветный воздух.
Всего часа полтора назад я преспокойно сидел в квартире Рода. Глаза были устремлены в телеэкран, а руки обнимали женские плечи. Но как только Рут ушла, мне стало не по себе. Я слонялся по комнате, не находя себе места, и нервничал все больше. Около полуночи залез под душ. После него перспектива снова надевать несвежее белье была невыносима, и я принялся рыскать по ящикам и полкам платяного шкафа. То ли Род потащил весь свой гардероб в турне, то ли вообще не хотел становиться заложником вещей, но добыча оказалась более чем скромной. Я нашел относительно приличную сорочку, которая мне не понравилась, и пару голубых безразмерных носков. Вот, пожалуй, и все. И тут я наткнулся на парик. Волосы на нем были светло-русые, довольно длинные, но не хипповые. Я надел его, посмотрел на себя в зеркало и поразился перемене. Одно меня смущало: парик был чересчур броский. Но этот недостаток был устранен, когда я обнаружил на полке полотняную кепку.
С кепкой парик меньше бросался в глаза. Близкий знакомый, разумеется, меня узнает, рассудил я, но незнакомец заметит только соломенные волосы под полотняной кепкой.
«Совсем офонарел», — сказал я себе и, скинув парик, уселся перед теликом. Через несколько минут зазвонил телефон. Я насчитал двадцать два звонка, прежде чем аппарат смолк. Звонившему либо надоело, либо ему ответила информационная служба. Днем телефон тоже периодически подавал голос. Один раз Рут чуть было не взяла трубку, но звонков не перевалило за полдюжины.
Без четверти час я напялил парик, кепку и выскочил на улицу.
Я ехал на метро потому, что таксист наверняка завел бы беседу, а мне не хотелось ни с кем разговаривать. Может быть, в глубине души я, кроме того, опасался, что попаду к тому же малому, который возил меня вчера ночью. Однако теперь, когда мне предстояло пройти пешком несколько кварталов от станции подземки до моего дома, я пожалел, что так поступил. Несмотря на поздний (или ранний?) час, на Семьдесят второй толкалось довольно много народа. Вдобавок улица была ярко освещена. Я жил здесь уже несколько лет, и мне стали попадаться знакомые лица. Я не знал этих людей, не знал, как их зовут, но не раз видел их в этих кварталах. Логика подсказывала, что им тоже приходилось меня встречать, и сейчас они могли узнать мою физиономию. Я постарался принять несвойственную мне осанку и переменил походку. Возможно, это и помогло. Никто не обратил на меня никакого внимания.
Я остановился в тени навеса на углу. Наискосок через улицу был мой дом. Подняв голову, я отыскал на шестнадцатом этаже свои окна, выходящие на юг. Моя квартира, часть пространства, принадлежащая только мне.