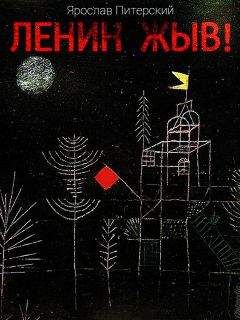Что же касается отца Кшиштофа, то и он не совсем вписывался в здешние пейзажи. Опять–таки тонкостью чувств и повышенной нервностью, вредной для обращения со скотом и лишней — с земелькой. Эти свыше данные качества в сельской жизни использовались им только в одном проявлении: умел Феля валуны дробить — любого — хоть с хлев — размера. Он находил в нем «пупок» — место, в котором камень как бы сходился в одну точку, разогревал огнем и затем раскалывал на множество частей одним ударом кувалды. Дабы лицезреть этот самый удар, сходилась вся деревня. Ганна с неделю потом ходила по веске именинницей.
Три года успели они пожить семьей до войны, но детей у них не было.
Когда началась война, — а для западных белорусов это произошло первого сентября 1939 года, — Фелю на второй день вместе с остальными мужиками мобилизовали в польскую армию, а семнадцатого в Вороново вошла армия Красная.
Как складывался его «боевой путь», с кем и где воевал Феля, осталось тайной за семью печатями. По Фелиному уверению, после разгрома польской армии он бежал в родные леса и прибился к партизанам. Вместе с ним какое–то время якобы побыла там и Ганна. Забеременев, она вернулась в деревню. В июле сорок четвертого этот отряд окружили немцы и полностью уничтожили. В живых осталось всего три человека, в их числе и Феля.
Они решили пробираться через линию фронта. До объятий СМЕРШа, однако, добрался один Фелициан, остальные погибли на минном поле. Как ему удалось отбрехаться и со СМЕРШем расплеваться, одному Богу известно. Ведь у СМЕРШа были все основания выразить Фелициану полное недоверие: ни одного свидетеля своих боевых деяний в составе партизанского отряда Сбруевич не мог представить ни сразу, ни потом: в ответ на расспросы односельчан только молча кивал на сына.
После войны семейная жизнь четы Сбруевичей не заладилась. Фелициан начал прикладываться к бутылке и поднимать на Ганну руку. А однажды, будучи в сильном подпитии, взял да и повесился.
По общему мнению односельчан, главной причиной разлада стало то, что Кшиштофа Ганна понесла–таки не от Фелициана. Ну, ни одной же общей черточки! Упомянуть хотя бы то, что Феля был смуглым, похожим на цыгана брюнетом, а Кшиштоф — снежнокожим и ярко–рыжим.
Таких шевелюр, кстати, вообще в деревне ни у кого больше не было. Может, некий «рыжик» воевал в одном с Фелицианом отряде? Но довольно сомнительно, чтобы Ганна могла крутить любовь с ним фактически на глазах мужа. В общем, история темная.
А ребенком Кшиштоф рос замечательным: добрым, послушным, уважительным к старшим и способным к школьным наукам. Словом, был для матери радостью. Ганна мечтала, чтобы тот стал врачом, но Кшиштоф почему–то выбрал пединститут. Когда закончил, распределился в Волковыский район и женился, попробовал было забрать мать к себе. Но Ганне невестка чем–то не угодила, и она вскоре вернулась в Радичи уже навсегда.
Ничего, нормально жизнь дожила: сын не забывал, дом был у нее справный, хозяйством себя не насиловала. Умерла внезапно — сердце. Впрочем, надо же от чего–то умирать.
На своей малой родине после смерти матери в восемьдесят втором году Кшиштоф Фелицианович бывал только на Радуницу. Обычно заходил и к Люции Адамовне, и к двоюродному дядьке, который живет в другом конце села. Несмотря на свое высокое положение, не зазнавался, так и остался уважительным.
Прищепкин не преминул заглянуть и к дядьке, Федору Николаевичу Кузьменку. Однако ничего нового для себя уже не узнал. Как абсолютное большинство Федоров, тот постиг все тонкости и премудрости своей профессии, в данном случае механика: например, мог бы запросто переделать в трактор стиральную машинку, но был слишком беззащитен перед зеленым змием и по этой причине в интеллекте изрядно к старости сдал.
К ночи Георгий Иванович был уже дома, на милой Бейкер — Коллекторная–стрит и в нетерпении названивал Шведу. Сашок задерживался, и его «свежеиспеченная» жена начинала волноваться.
С точки зрения приезжего, тяжел, угрюм и, честно говоря, безобразен Витебск при любой погоде. Поначалу город сей обнаруживает только способность угнетать. Это, наверно, объясняется неким изначально заложенным в него хаосом и туберкулезностью природы, вполне северного уже, лишайного характера, которая тускло зеленеет в расщелинах хрущоб. Однако при дальнейшем изучении обнаруживается у разлезлого Витебска и некий чудесный выход из него прямо на небо. Словно в каком–нибудь ухоженном итальянском храме. Эту гравитационную (?) воронку возможно порождала мощно разводящая город на две части полноводная, сильная, самодостаточная Северная Двина.
По крайней мере, именно на мосту, в центре города, Швед внезапно эту воронку и ощутил. У головы, сердца, Бог знает точно где, но что провихрилась и унеслась она дальше — ощущение было достаточно определенное. А то ведь второй час уже Сашок только плевался: какая все же параша ваш этот самый Витебск!
И сразу там, на мосту — с видом на старый парк, — вспомнилась ему картина витеблянина Шагала, на которой два отрешенных человечка, Он и Она, с блаженными мордами парят над этим убожеством. Оказывается, попали в эту самую воронку. Шагал в ней пасся… Этот витебский художник, что называется, сделал Париж, а затем и весь остальной мир. Даже включая неприступный из–за своей кондовости Витебск. Так–то. А еще в этом городе был опробован первый в Российской империи трамвай.
На этом можно было описание Витебска и ограничить — бочка меда, доброе ведро дегтя, тем не менее предельно допустимые пропорции соблюдены, — но уж совсем не понравились Шведу местные прелестницы. По его мнению, «дыхание близкого Севера и плохая, выпитая их отцами водка витеблянок обесцветили, минчанкам они и в подметки не годились».
Оставим этот изыск на его совести. Швед любил женщин, и женщины в ответ любили Шведа. Можно даже сказать, что любовь, вернее, «любови» исковеркали ему жизнь. Поэтому судить женщин он имел моральное–аморальное право.
Однако помимо всего прочего Витебск был еще и довольно большим городом, поэтому найти следы детского пребывания в нем господина Блинкова оказалось не так просто. Хотя бы по той причине, что родители его давно умерли, а второстепенные родственные связи сначала по–городскому распались, а потом и забылись. Не стань Блинков звездой, эти связи бы уже навсегда предались забвению. В конце концов, мы все родственники — через Адама.
Блинковых в городе было еще две семьи, но к самому великому танцору всех времен и народов отношения не имели. Барак, в котором он родился, снесли еще тридцать лет назад; исчезла и улица, на которой тот стоял. Сохранилось только здание школы, в которой Блинков когда–то учился, но она перепрофилировалась в музыкальную. У входа в школу не висело пока мемориальной доски, и Сашок понадеялся, что ее туда не прибамбасят.
Поиск сдвинулся с мертвой точки в архиве облоно, в котором Шведу удалось обнаружить список выпускников бывшей 19‑й средней школы 1960 года, 10 «б» класса. Более половины из них проживали в Витебске и в данное время.
Отставной капитан первого ранга Евгений Петрович Щебетной считался его наиболее близким другом с пятого по восьмой класс. Затем их пути разошлись, Женя начал усиленно заниматься спортом и готовиться к поступлению в училище подводного плаванья, а Гена связался со стилягами и зациклился на джазе. «А ведь среди джазменов только Элла Фитцджеральд проявила себя явным другом Советского Союза», — заметил бывший офицер.
Таким образом, Блинков стал одним из витебских битников — в городе на Северной Двине тех насчитывалось вряд ли более десятка. Гена отрастил чуб, носил длинный свободный пиджак и очень узкие короткие брючки, чтобы надевать которые приходилось каждый раз обильно намыливать ноги. А еще ребята сами шили себе какие–то невообразимые галстуки.
Комсомольцы, да и простой рабочий люд (в пьяном, понятно, виде) битников учили. Иногда кулаками. Ведь если, скажем, в Москве диссидентов не любили сверху и по казенной необходимости, то в Витебске — изнутри и довольно активно. У ребят сложилась репутация американских шпионов. Им прямо в глаза это говорили. В конце концов из города их таки выжили.
Больше Блинкова в Витебске не видели ни разу, он даже не заезжал сюда со своими шоу. Витебск и Блинков друг друга явно не любили.
По всей вероятности, в городе существовал еще и выход прямо в пекло. Опалившись там и поднабравшись низменных красот, Блинков, этот Шагал в минусе, бежал из Витебска. Чтобы никто его не раскусил, не указал на источник вдохновения пальцем.
А так Блинков был вполне нормальным парнем: не жадным, общительным. Умел за себя постоять. Любил ли деньги? Да какие тогда были деньги: люби их не люби — все равно даже номенклатура тогда дырявые носки не выбрасывала, а штопала.
Родители у Блинкова самые обыкновенные и очень простые. Отец, Кондрат Степанович, вечно больной был. Лежал в своей комнатушке и на глаза не показывался. А мать, Татьяна Леонидовна, отличалась редкостным хлебосольством, не накормив, из квартиры Генкиных друзей–приятелей не выпускала.