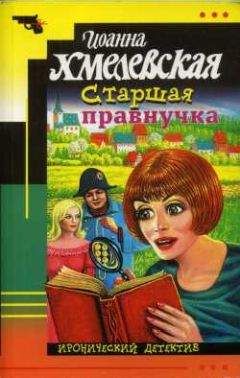Девочка вроде бы ухватила суть.
– Это как попрекать кого-нибудь, что не умеет есть культурно, не научился пользоваться ножом и вилкой?
– Что-то в этом роде. Некрасиво. Научится и будет есть культурно.
– Ну ладно, скажу девчонкам завтра, что я ошиблась, пусть отвяжутся. И еще я сама хочу прочитать дневник прабабушки.
– Хорошо, вот подрастешь немного…
– А я сейчас хочу!
– Сейчас тебе нельзя.
– Почему?
– А потому… – начала Юстина, чувствуя, что ее запасы материнской дипломатии уже иссякают, и вдруг сообразила: – Впрочем, читай, если хочешь.
Она оставила дочери дневник, убрав лишь перепечатанную на машинке часть. Маринка жадно накинулась на добычу, но очень скоро поняла, что разобрать каракули прабабушки ей не по плечу, и охладела к истории. С этой проблемой на время было покончено.
Следующую создала Барбара. В последнее время она стала очень нервная, главным образом по причине того, что с каждым днем ухудшалось ее материальное положение из-за дурацких порядков в стране. В нервах она с такой силой крутанула кран в ванной, что вырвала его со всеми потрохами, в результате чего пришлось делать ремонт и менять всю сантехнику. Три недели в квартире был совершеннейший бедлам, семейство лишилось удобств, а за рабочими, разумеется, присматривала Юстина.
Только через два месяца сумела Юстина спокойно засесть за дневник прабабки и вникнуть в запутанные перипетии похождений панны Зажецкой. Похоже, и Матильду они увлекли не на шутку, так как описаны были одним духом, без перерывов и посторонних вставок.
Богатая наследница рода Зажецких по достижении шестнадцати лет для завершения образования и приобретения великосветского лоска была отправлена в один из дорогих французских пансионов. Шустрой девице надоели скучные порядки полумонастырской жизни, и с помощью разбитной горничной-француженки панна Зажецкая ухитрялась тайно покидать пансион, предаваясь ночным развлечениям славного города Парижа. Большое, а возможно, и решающее участие в этом мероприятии принял некий виконт по имени Жан-Поль и неизвестной фамилии, ибо пользовался несколькими, и наверняка ни одна из них не была настоящей. Роскошные формы молоденькой польской панны возбудили в виконте пламенную страсть, поначалу на расстоянии, а потом вплотную, что привело к совершенно ужасающим последствиям. Правда, сомнительный виконт соглашался покрыть законным браком эти самые последствия, но кто же станет выдавать родную дочь, пусть и падшую, за какого-то французского голодранца?
Благородное семейство энергично принялось за дело. Раструбив повсеместно о болезни панны, ее увезли в глухую деревушку, где она и произвела на свет потомка, оставив его в той же деревушке здоровой бабе, которой теперь предстояло вместо одного выкармливать двух малышей, а панну Зажецкую в отличном состоянии доставили на родину. Правда, за нею тянулись длинным шлейфом сплетни, предполагалось, что того и гляди следом явится влюбленный виконт, ибо полюбил панну безумно, да и она к нему расположена. Весь уезд буквально гудел, все возмущались папенькой и маменькой Зажецкими, которые как ни в чем не бывало вывозили дочь в свет, словно выставляя напоказ в салонах и на балах. Случись такой конфуз с кем другим, объявили бы единодушный бойкот проштрафившемуся семейству, однако миллионы Зажецких сделали свое дело, и скандал потихоньку догорал, придавленный золотым плащом.
Красочное описание громкого скандала заняло у Матильды целых пять страниц убористого текста, а у Юстины – полгода. После чего в дневнике опять всплыл детективный сюжет.
Довольно времени прошло, и Зеня вновь, чуть развиднелось, верхами с конюшим своим прискакала, хоть погода и ужасная, сама будучи в состоянии еще более ужасном, так вся и тряслася, словно лист осиновый. Пришлось бедняжку отпаивать водою студеною, коньяком французским и соли нюхательные применять, тогда только в себя чуток пришла и речь связную повела, а не одни восклицания без смысла. Уразумевши, что приключилося, и я в ужас пришла и тоже коньяка глотнула, хоть отвратное это питие паче всякия меры.
Намедни эта вещь ужасная приключилась, как Зеня прием у себя устраивала. Шумские князь с княгинею письмом извещали, желают-де с нею свидеться и с нотариусом Вжосовским, поскольку они проездом здесь случились, а то Зене не в диковинку, у нее чуть не каждый день гости пребывают в доме. И меня с нарочным приглашала, да мне не с руки было к ней выбираться, свои гости нагрянули, о чем теперь и сожалею, да кому же загодя промысел Божий ведом?
И вот вчерась под вечер Зеня принарядилась, дабы гостей достойно встретить, и быстрым шагом из гардеробной вышла, что на втором этаже ее дома помещается. К лестнице шагнувши, почуяла вдруг, как застежка в панталончиках отпустила, и панталоны почитай до полу сползли. За благо сочла, что еще сама с лестницы не сошла, лишь ногу занесла, и тут ее ровно что за щиколотку ухватило. Как в землю врытая наверху лестницы замерла, однако же покуда ничего дурного не помыслила. В гардеробную воротившись, громким звонком горничную свою Флорку снизу в нетерпении вызвала, ибо времени совсем не осталось, уже стук кареты княжеской слышался. И тут же грохот и крик в доме раздалися.
Выглянула Зеня на лестницу и свою горничную Флорку узрела. Девка как раз со смехом с полу встала и перед барыней извиняться принялась за свою неловкость, мол, поспешаючи на зов, по лестнице взбежала, на последней ступеньке споткнулась и на пол свалилась. И тут, молвила Зеня, меня ровно что кольнуло и все поняла. Надела другие панталоны, Флорке велела в гардеробной остаться и прочие туалетные принадлежности в нужный вид привести, дабы впредь такая конфузил не приключилась, сама ножнички прихватила и из гардеробной вышла, двери затворив. У лестницы на колени встала и, как там темно было, на ощупь у первой ступеньки препятствие обнаружила, что давеча за щиколотку ухватило.
Не дыша внимала я Зене, то в жар, то в холод меня кидало, и дурное предчувствие в душе зародилось. Ну, так оно и обернулось. Нитку Зеня нащупала в полутьме, привязанную одним концом за балясину под перилами лестницы, а другим – за гвоздь в деревянной панели на стене. Кабы в спешке за ту нитку – нитка-то не обычная, а такая, которою мешки сшивают, тонкая да крепкая, – кабы, молвила, за ту нитку в спешке зацепившись ногою, с самого верха лестницы свалилась, все ступеньки пересчитавши, в живых мне не быть. Вот и получается – панталончикам жизнью обязана.
И я о том же подумала, и опять мы с подружкою коньячком подкрепились. В Зенином доме никаких шаловливых детишек не водится, что могли нитку крепкую поперек лестницы привязать.
Тут Зеня, подружка моя бесценная, и о других злодействах мне поведала. До сих пор молчала, меня беспокоить не желая, а теперь молчать мочи нет…
"Злодейства" заключались в нескольких покушениях на жизнь Зени: то на нее с высоких консолей при входе в вестибюль свалилась массивная мраморная фигура, лишь чудом не прибив, то ее пытались отравить, подбросив яд в любимое черносмородиновое питье (отравилась вылакавшая его собака), то оказалось надрезанным крепление ее седла, которое непременно свалилось бы вместе с Зеней во время бешеной скачки по оврагам. К счастью, в последнем случае конюший Ростоцкий вовремя заметил непорядок и как следует закрепил седло, сообщив об этом хозяйке лишь после прогулки.
Услышанное заставило Матильду призадуматься, ведь она обещала Матеушу обязательно сообщить, если опять станет известно о каких-нибудь преступлениях, а рассказ Зени несомненно свидетельствовал о злом умысле. Пока она решала, как быть, в комнату вошел Матеуш и был весьма изумлен, "двух баб средь бела дня за коньяком увидев. Слова злого не молвил, только поучил маленько, дескать, даже актриски пить лишь ближе к вечеру начинают".
….Я молчала, все еще сомневаясь. Зеня, однако же, доверие большое к Матеушу питая, просила добрый его совет, наперед заставив пообещать, что без ее согласия ничего не предпримет. Мне бы Матеуш никогда на уступки не пошел, но как Зеня ему не жена, хоть и дальней родней приходится, пообещал.
А услышав обо всем происшедшем, сам коньяку довольно хлебнул и даже о втором завтраке мне припомнил, однако неудовольствия не выразил, хотя и мой то был недосмотр. Признать надобно, часто так вот Матеуш хорошим мужем себя показывает и не совсем глупым. И тут он прав, мужчине натощак мыслить никак невозможно, а в Зенином случае видится ему дело весьма серьезное.
Распоряжения по хозяйству на скорую руку выдавши, накрыла я изрядный стол, и мы втроем принялись за еду. Любопытно мне было, какие светлые мысли мужнин разум осенят. В дневнике перед собою признаюсь, истинно светлые.