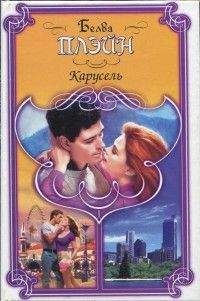Ознакомительная версия.
Кашель подавившейся бульдожихи превратился в мучительный хрип, наводящий на мысль об очень запущенном бронхите.
– Вам надо лечиться, – фальшиво посочувствовала я. – В аптеках есть прекрасный индийский сироп от кашля, рекомендую.
– Я здорова, – прохрипела баба.
– И полны сил и желания мне помочь? – подсказала я.
Моя собеседница неуверенно кивнула.
– Отлично! – Я накрыла удостоверение собесовским письмом. – Скажите мне, пожалуйста, что это означает?
Баба повертела в руках конверт, бегло проглядела бумажку уведомления и бдительно заметила:
– В удостоверении указана совсем другая фамилия. Это не вы Петрова?
– Это не я, – легко согласилась я. – Людмила Петрова – моя коллега. Люда некоторое время назад уволилась из нашей телекомпании. Из общежития она съехала, ваше письмо не получила. Его передали нам, но мое начальство не знает, что с ним делать. Новый адрес Петровой нам неизвестен, а письмо все-таки официальное, оставить его без внимания руководство не решилось. Вот, я возвращаю его вам.
– А мне оно зачем? – Баба отказалась от письма с таким испугом, словно в конверте мог быть порошок сибирской язвы. – Это письмо вообще уже никакого значения не имеет, пособия пересмотрены, а если ваша Петрова переехала из нашего района, то ее делами теперь другой собес занимается.
– А разве вы не должны были снять ее с учета?
Бульдожиха хмуро посмотрела на меня, отодвинула стул, встала и прошла к большому старообразному шкафу. Скрипнула дверца, баба скрылась за ней и зашуршала бумагой.
– Числится у нас, – с сожалением сообщила баба, не покидая чрева поместительного шкафа. – Петрова Людмила Ивановна, восемьдесят третьего года рождения, она?
Я быстренько выдернула из сумки ксерокопию Людочкиного паспорта, которым меня снабдила предусмотрительная Ангелина Митрофановна, и сверила данные.
– Родилась шестого мая одна тысяча девятьсот восемьдесят третьего года в городе Тихореченске, – подтвердила я.
– Сын Андрей Андреевич, две тысячи второго года рождения, так? – спросила еще баба. – «Родовое» пособие получено, единовременное губернаторское – тоже, а ежемесячное не назначалось…
Я спешно листала странички ксерокопии. Под заголовком «Дети» – пустые строчки!
– Сын Андрей Андреевич, две тысячи второго года, – повторила я, торопливо записывая ценную информацию на обороте последнего листа ксерокопии.
На этом содержательный разговор закончился, больше ничего интересного мне собесовская тетка не сообщила. Прощанье наше было скомканным. В кабинет без стука ворвалась давешняя мамаша с сумкой в одной руке и свернутой газетой – в другой. Газетной трубочкой она тут же начала колотить по столу, требуя от багровеющей бульдожихи, чтобы та немедленно ознакомилась с каким-то свеженьким постановлением федеральных властей. Вроде это постановление кардинальным образом должно было изменить сам принцип распределения пособий. На миг я представила себе бульдожиху стоящей на пороге кабинета и широким жестом бросающей в очередь родительниц денежные купюры… Или бегущей по коридору вдогонку за уходящей мамочкой, чтобы запихнуть в сумку с подгузниками конвертик с деньгами… Или вообще коленопреклоненной, с молитвенно сложенными руками и слезно просящей принять пособие от собеса… Картинки были живописными, но абсолютно нереальными. Отгоняя видения, я потрясла головой – это сошло за прощальный кивок – и удалилась.
Купила в киоске эскимо, на бульваре присела на лавочку с видом на магазин обуви и, рассматривая чудовищно дорогие босоножки карамельно-розового цвета, призадумалась. Экстравагантную обувь украшали искусственные цветы, похожие на дикий гибрид георгина с морским ежом. Эти пластмассовые помпоны помогли мне подобрать определение для Людочки Петровой. Я предположила, что она лгунья, причем махровая. Надо же, у женщины есть ребенок, а она выдает себя за девственницу!
Впрочем, нельзя было исключать вероятности того, что маленький Андрей Андреевич не родной сын Людочки. Может, девушка усыновила чужого ребенка? Тогда она скорее святая, чем махровая грешница.
Я искренне сожалела о том, что не видела Людочку своими глазами. Тогда у меня было бы больше оснований для суждений о натуре Вадиковой невесты. Вот если бы Вадик не уступил настояниям своей деспотичной мамаши и хотя бы на свадьбу позвал друзей-товарищей и меня в их числе… Так нет же, одного Женьку пригласил!
Досадуя, я стукнула кулаком по скамейке и угодила по пивной пробке, которую кто-то бросил на лавочке. Металлические зубчики больно впились в кожу, я охнула и поспешила сковырнуть желтую коронку. Она снялась легко, но оставила характерный след.
Снялась! Съемки! Я подпрыгнула на лавочке, едва не угодив на коварно притаившуюся пробку мягким местом. Да ведь Женьку позвали на свадьбу лишь потому, что нужен был оператор с камерой! Как же я сразу не подумала спросить у приятеля отснятый материал!
Обрадовавшись тому, что у меня все-таки есть возможность увидеть Людочку Петрову, хотя бы в записи, на экране телевизора, я достала телефон и позвонила Женьке.
– Здоров! – необычно мрачным голосом приветствовал меня товарищ. – Ты уже в курсе?
– Нет, – испугалась я. – А что случилось?
– Собираем на венок для мамы Вадика, – сообщил Женька. – Думаем, как поступить с лентами.
Я молчала. Смысл сказанного доходил до меня медленно, с большим трудом. Ошарашенное воображение скупыми мазками рисовало портрет в пейзанском стиле: мадам Рябушкина в малороссийском веночке с цветными ленточками…
– Я думаю, что на ленте надо золотыми буквами написать «от коллег сына», а Наташка говорит – лучше «от работников телекомпании», – продолжал невесело бубнить Женька.
– Погоди, Жень, притормози! – взмолилась я. – Ангелина Митрофановна умерла?! Банкирша Рябушкина? Ты серьезно? Это не дурацкая шутка в духе черного юмора?
– Знаешь, я открыт для юмора всех цветов, но дурацкие шутки не в моем стиле! – обиделся Женька.
Зря, между прочим, обиделся. По опыту многолетнего общения я бы назвала дурацкие шутки его специализацией! Но спорить с приятелем я не стала, поторопилась расcпросить:
– Как она умерла? Почему? Я ее только вчера видела!
– И завтра тоже увидишь, если захочешь, – сказал Женька. – Похороны назначены на четырнадцать часов, собираемся у нашей конторы. Но что же все-таки написать на ленте? Может, «от друзей сына»?
– От тех самых друзей, которых при жизни покойница от сына своего всячески отваживала? – напомнила я. – Такая надпись будет звучать вызывающе. Вы, мол, Ангелина Митрофановна, нас ни в грош не ставили, а мы хорошие, абсолютно не злопамятные: вот, даже веночек вам прислали!
– Кстати, о вызывающем поведении! – Женька немного оживился. – Хочешь узнать последние сводки с линии фронта?
– Какого фронта? – не поняла я.
– Ну, нашего! Фронта борьбы с гадюкинщиной!
– А разве на этом фронте кто-то остался? – удивилась я. – Нас же всех демобилизовали?
– Это вас, журналистов, демобилизовали! А мы, техники, просто ушли в партизаны!
– Расскажи, – попросила я.
И Женька с удовольствием рассказал мне, что операторов и монтажеров новое начальство в безвременный отпуск не отправило. Видимо, Гадюкин решил, что зловредные каверзы супротив него измышляли хитроумные творческие работники, а техники – народ простой, рабочие лошадки телевидения. Посему лошадкам велели находиться в стойлах, то есть – на трудовых постах. Господин Гадюкин плохо ориентировался в телевизионном закулисье и еще не постиг сложную природу наших технических работников!
– Ой, вы, кони мои, кони привередливые! – насмешливо напел Женька, характеризуя наших «лошадок». – Мы устроили Гадюкину геноцид! Гнобим его, но тайно!
Оказывается, в отсутствие нормальной работы парни заскучали и, чтобы развеяться, начали перевоспитывать Гадюкина. Цель своей педагогической работы самодеятельные Макаренко и Песталоцци увидели в том, чтобы избавить господина Гадюкина от нездорового стремления руководить нашей телекомпанией.
– Клянусь, еще день-другой – и ему окончательно расхочется сидеть в директорском кресле! – заявил Женька.
– Как же вы этого добиваетесь? – заинтересовалась я.
– Мы всячески компрометируем это самое кресло! – рассмеялся приятель. – Вчера, например, пристроили на сиденье офисную булавку – такой полуторасантиметровый шип! Для неприметности выкрасили его черным лаком для ногтей и прилепили на двусторонний скотч острием вверх!
– И Гадюкин сел?
– Сел, но о-очень быстро встал! – захохотал Женька. – И потом с полчаса бегал по телекомпании, как ужаленный! А сегодня утром мы облили кресло кошачьей мочой!
– Вы кота в студию притащили?! – весело изумилась я.
Ознакомительная версия.