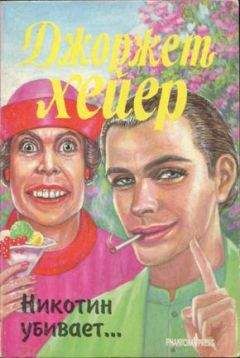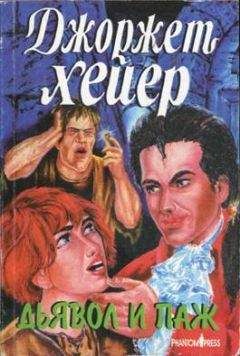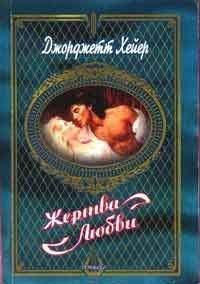— Это и впрямь все меняет, и если Уоренби был убит между шестью и шестью тридцатью, то круг поиска убийцы значительно сужается.
— Если только убийство не совершил человек, про которого мы ничего не знаем, сэр. Но в это мне мало верится. Под подозрением остаются четыре человека: пастор, мистер Хасвел, молодой Ладислас и Гевин Пленмеллер. Если убийство совершил пастор, то я завтра же ухожу в отставку по профессиональной непригодности. Что касается мистера Хасвела, то в его виновность я верю, сэр, ничуть не больше. Более того, не вижу ни одного мотива, который мог бы послужить для него хорошим поводом.
— Я знаю Хасвела много лет. Мы дружим семьями. И если убийство совершил он, то я вынужден буду признаться, что ровным счетом ничего не понимаю в людях.
— Согласен с вами, сэр. Он вряд ли подходит на эту роль. Он угодил в квартет подозреваемых лишь из-за отсутствия алиби.
— Что касается этого поляка, Ладисласа, то у него мотив для убийства очевиден. А Пленмеллер!.. Возможно, он и мог это сделать, но зачем?! Похоже, какие-либо мотивы у него полностью отсутствуют.
— А вот в этом я как раз и не уверен, сэр, и именно об этом хотел с вами поговорить. У Уолтера был официально зарегистрированный кольт двадцать второго калибра. Я не обнаружил его в оружейной у Гевина Пленмеллера. Не знаю наверняка, каким оружием может располагать Ладислас, но мне с трудом верится, что у него может быть хоть что-то. Ведь подобное оружие могло остаться только со времен войны. Однако, насколько мне известно, ни в одной армии мира не используют револьверы двадцать второго калибра. Поэтому остается Пленмеллер, сэр.
— Ничего не могу вам сказать на этот счет, — признался полковник. — Если честно, то мне этот тип не по душе. Но что могло толкнуть его на убийство Уоренби? Если только воображение, воспаленное детективными романами и желание лично озадачить полицию…
— Не думаю, что на убийство его могло толкнуть воспаленное воображение, а вот завести полицию в тупик он действительно в состоянии. У меня есть сильное подозрение, что мы имеем дело с человеком, которому сошло с рук уже совершенное когда-то убийство и он с легкостью пошел на второе.
— Что вы имеете в виду, Хемингуэй? — не понял полковник.
— Я хочу знать, что случилось на самом деле с Уолтером Пленмеллером, который, по нашим данным, совершил самоубийство.
Некоторое время полковник Скейлс изумленно смотрел на Хемингуэя.
— У вас есть реальные соображения, которые натолкнули вас на подобный вывод?
— Да, сэр, — ответил Хемингуэй и выложил на стол письмо, написанное перед смертью Уолтером Пленмеллером. — Оно было найдено среди бумаг Уоренби. И меня очень интересует, почему оно хранилось у него в сейфе, отдельно от прочей судебной документации по делу, которое всегда подшивается в одну папку.
— Вы говорите, письмо хранилось отдельно? Но так никогда не поступают.
— Вот именно, сэр, — согласился Хемингуэй. — Соответственно у Уоренби были на это какие-то веские причины. И должен сказать, что это письмо и может стать ключом к разгадке.
Полковник прочитал письмо.
— Хорошо помню это дело и, надо заметить, я тогда от души сочувствовал Гевину.
— Отсюда следует, что Уолтер искренне ненавидел своего братца, — сказал Хемингуэй.
— Ерунда! Уолтер вовсе его не ненавидел. Он был тяжело болен. Военное ранение. Он страдал мигренями и бессонницей. Его специально консультировал приглашенный из Лондона специалист, который и прописал ему необходимые лекарства.
— А не принял ли он смертельную дозу снотворного?
— Это исключено. Помимо судебно-медицинской экспертизы, то же самое подтвердила и служанка, нашедшая лишь одну упаковку от лекарств.
— Но, сэр, если у него была возможность уйти из жизни при помощи снотворного, почему он тогда решил отравить себя газом? — с удивлением спросил Хемингуэй.
— Скорей всего, Уолтер просто не знал, какова смертельная доза. Не вижу ничего удивительного в том, что, выпив обычную дозу, от которой он должен был крепко уснуть, он включил газ.
— Возможно, — согласился Хемингуэй. — Если снотворное оказывало свое действие в течение минуты или двух. А если действие растягивается, предположим, на тридцать — сорок минут, то Уолтер выбрал не самый лучший способ свести с жизнью счеты.
— Поймите, Хемингуэй. Гевин был действительно прямым наследником Уолтера, но ведь Уолтер не был богат. Стал бы Гевин убивать брата, чтобы получить дом, содержать который в порядке у него попросту нет средств?
— Хорошо, сэр. Но обратите внимание на эти строки письма: «Ты приехал ко мне, чтобы получить от меня то, что тебе нужно». Похоже, что Гевин мог рассчитывать на какие-то средства. Ничего не всплыло на этот счет во время следствия?
— Нет. Об этом не было сказано ни слова. К тому же Уолтер сам говорил, что с трудом сводит концы с концами.
— Понятно, сэр. Но пару минут назад вы скачали, что Уолтер вовсе не ненавидел своего брата, а это письмо навело меня на противоположные мысли.
— Возможно, — кивнул полковник. — Но вы его просто не знали. Доктор Уоркоп нередко фиксировал у него нервные припадки, и, возможно, письмо и было написано в подобном состоянии. Я и сам однажды наблюдал его во время приступа. Он был вне себя от ярости. Но я убежден, что он по-своему любил Гевина. Сколько раз он клялся не пускать больше Гевина в дом, но когда остывал, то начинал тосковать по брату. У него ведь, из-за болезни, не было никаких друзей, с которыми он мог бы общаться. В сущности он был очень одинок. — Полковник закурил новую сигарету. — За пару недель до смерти, в очередной раз поругавшись с Гевином, он клялся всем подряд, что никогда больше не примет его в своем доме. А за три дня до смерти приехал сюда в Белингэм на специально нанятой машине, чтобы встретить Гевина на станции.
— Это интересно. И что же такого выкинул Гевин, чтобы за три дня довести Уолтера до самоубийства?
— Я понимаю, что это звучит странно, — согласился полковник. — Но доктор Уоркоп, который знал состояние здоровья Уолтера лучше, чем кто бы то ни было, уверен, что все произошло из-за психического нарушения. На суде Гевин сам говорил, что перед смертью Уолтер был в очень тяжелом состоянии и находился, что называется, на грани. И доктор Уоркоп в частной беседе сказал мне, что в таком состоянии он мог легко решиться на самоубийство и в этом нет ничего удивительного. Можно сказать, что Гевин несет моральную ответственность за смерть брата. Но он ведь даже не уничтожил письмо, которое его в какой-то степени дискредитирует. А наоборот, передал его в руки инспектора Фроптона. И это, надо заметить, делает ему честь. Что вы думаете по этому поводу теперь, Хемингуэй?
В это время на столе полковника зазвонил телефон. Он снял трубку.
— Вас хочет видеть ваш коллега, Харботл, — сказал Скейлс Хемингуэю.
— Очень хорошо. Должно быть, он нашел то, о чем я его просил, — сказал Хемингуэй.
— Думаю, вам стоит самому ознакомиться с протоколами судебного заседания по этому делу, — подытожил полковник.
— Непременно, сэр, — пообещал Хемингуэй. Он взглянул на лежащее на столе письмо. — Когда читаешь подобное письмо в первый раз, то оно кажется обыкновенным предсмертным посланием самоубийцы. Но потом все же складывается впечатление, что все не так уж гладко.
— В каком смысле?
— Послушайте, сэр: «Ты приехал ко мне, чтобы получить от меня то, что тебе нужно. Это последнее письмо, которое ты от меня получишь. Твои злой язык окончательно довел меня, и я потерял остатки терпения и выносить твое общество больше не в состоянии…» И мне кажется, что Уолтер имел в виду, что не собирается больше терпеть брата в своем доме, а вовсе не кончать жизнь самоубийством, сэр! Постарайтесь понять это именно так, как я говорю.
В это время в дверь постучали и в кабинет вошел Харботл. Полковник взял в руки письмо и начал его перечитывать.
— И все же я уверен, что Уолтер совершил самоубийство, — проговорил полковник, дочитав письмо и отложив его в сторону.
Хемингуэй взялся за материалы следствия, принесенные Харботлом. Закончив чтение, он молча поднял глаза на Скейлса.
— Ну как? По-моему, теперь нам все должно стать понятным, — проговорил полковник.
— Все просто и гениально, — сказал Хемингуэй, усмехаясь.
— Опять что-то не так? — резко спросил Скейлс.
— К сожалению, да, сэр. Никому и в голову не пришло, что это письмо вовсе не то, за что его принимали. И возможно, я бы тоже не стал сомневаться, не окажись оно в сейфе Уоренби, где его, как вы понимаете, быть не должно.
— Вы хотите сказать, Хемингуэй, что Уоренби, будучи коронером, понял, что письмо выдавалось совсем не за то, чем оно было на самом деле? — Полковник был поражен собственной догадкой.