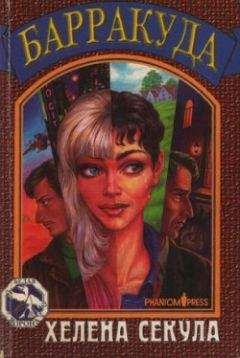– Что вы знаете про Жемчужину? – еле выговорила я. Невозможно было спокойно слушать его пророчества.
– Не впрок тебе мои нотации? Ну что ж, знал я девушку с таким прозвищем, когда барменом в «Атласе» работал. Молодая, красивая очень, ей и двадцати не было… Сейчас уж под сорок, если еще жива. Решила-таки найти ее? – сочувственно закивал дед.
– Да.
– Ну, ищи, ищи… Дам тебе адрес одной такой, что с Жемчужиной вместе жила. Бог даст, увидишь ее – сразу расхочется мамашу искать. А если в Щецине ничего не получится, подскажи своему адвокату, чтобы по тюрьмам справился, по спискам заключенных. Там наверняка разыщет и эту Козярек, и этого… как его… Банащака.
* * *
Так все началось, так я стала исследовать оборотную сторону медали, которая до той поры была общей, единой жизнью. Моей и родителей. Сама того не зная, я перешагнула круг законов, в котором человек живет в безопасности, пока совесть его чиста.
Нет, не надо лгать, хотя бы самой себе. Неправда, что я поступала бессознательно, не отдавая себе отчета в своем поведении. Я понимала, что переступила ту грань, за которой человек совершает зло, пусть и во имя благородной цели. Мало того, он еще и признает за собой право судить других, вмешиваться в их жизнь. Я старалась убедить себя, что действую под флагом добра и справедливости, но только сделать это было не так легко.
Эта моя, прости господи, справедливость состояла из инстинкта самосохранения (чего уж скрывать!), слепой любви к матери (а любовь к матери всегда слепа!) и ненависти к человеку, который угрожал моему надежному, безопасному и такому прекрасному миру. Этот мир я до недавних пор считала вечным. То есть он возник задолго до моего появления и должен был оставаться неизменно прекрасным. И на мою животную убежденность никакая диалектика не влияла, ее законы не касались моего дома, моих родителей, нашей жизни и связующих нас нитей. Не касались они нашей маленькой вселенной, в которой существовала только Я и две всемогущие добрые планеты, что вращались вокруг меня: папа и мама. Эгоцентризм? А то! В конце концов, я была обожаемой, единственной и в меру балованной доченькой.
Будь наша семья поплоше, не такой благополучной и счастливой, я, наверное, легче перенесла бы этот шок. Не знаю…
Прежде чем я освоилась в новой ситуации, хотя и не смирилась с ней, я жила как в дурном сне, как в тяжкой болезни. Меня ничто не трогало, зато терзали примитивные и сильные чувства, которые сопутствуют человеку с пещерных времен. Вот я и отстала в учебе, а третий класс лицея закончила на одни тройки, да и те получила только за прошлые заслуги, потому что по справедливости надо было меня выгонять.
И никто мне дома дурного слова не сказал, хотя директор наш был страшно разочарован. У него в голове не умещалось, что любимая ученица больше не гордость лицея. Никто не мог найти разумную причину, в том числе и мои предки. Ведь на первый взгляд ничего со мной не случилось. Откуда же вдруг такой перелом в поведении Дороты Заславской, способной ученицы, первой в классе?
«Девочка совсем забросила учебу…» – жаловалась матери искренне огорченная пани Лахоцкая, моя классная. Она тоже меня любила, потому и упустила момент, когда от девочки осталась только идиотская коса. Я бы давно подстриглась, кабы не предки. Их моя коса умиляет. Она напоминает им крошку Доротку, сладкого пупсика, с которым было куда меньше проблем. Родители предпочли бы видеть меня маленькой девочкой с большим бантом и в короткой юбочке. Юбочки-то я и сейчас ношу короткие, только в их хозяйке росту метр шестьдесят пять и пятьдесят восемь кило живого веса. Ничего себе пупсик, правда?
После панихиды на родительском собрании дома никто не стал устраивать по мне поминок и читать проповеди в духе Армии спасения. Родители у меня совершенно нетипичные, и я всегда ими гордилась. К людям и к жизни они относились мудро и снисходительно, мои подружки мне бешено завидовали. Парни еще сильнее завидовали, что у меня такой отец.
Мать восприняла мои проблемы в учебе сдержанно, с доброй озабоченностью, а отец – шутливо, и больше разговоров на эту тему не было. Пластинку сменили.
– Куда поедем на каникулы?
Они всегда меня понимали; знали, что я самолюбива, далеко не дура, и нечего пилить человека, если у него что-то не получилось.
Вся эта болтовня насчет конфликта поколений – полная чушь… Как можно делить людей на поколения? С тем же успехом можно разделить их по болезням, и что тогда? Язвенники против гипертоников, что ли? Чепуха. У нас с родителями не было никакого возрастного барьера.
И мои предки, как обычно, оказались на уровне. Вместо того чтобы мусолить мои тройки, они принялись обсуждать каникулы. Меня же два месяца предстоящей свободы совершенно не радовали, как и заманчивое предложение отца поехать в Испанию.
У отца в работе выдался перерыв – во Францию, а потом в Швейцарию ему предстояло ехать только в сентябре. В Женеве он проводил по три-четыре месяца в году. Как выдающийся специалист по международному праву, он был постоянным членом какой-то высоколобой комиссии по правам человека при ООН.
Отец расписывал красоты Испании, а я знала: все это для того, чтобы хоть немножко растормошить меня, вывести из странной угрюмости. Последнее время я ходила безразличная ко всему на свете, заторможенная, и это не могло не тревожить моих любящих предков.
Гораздо больше, чем дурацкие тройки, их беспокоило мое душевное состояние. Они искренне хотели помочь мне выбраться из кризиса – моя депрессия не укрылась от их внимательных глаз.
Они ни о чем меня не расспрашивали, зная, что в конце концов я приду к ним со своими горестями, прежде всегда так и бывало… Только прежде я им доверяла. Доверяла? Нет, скорее, верила, как в Господа Бога.
А они, такие мудрые, такие тактичные, не заметили, что мой бог рухнул с пьедестала, а с его падением распался и мой мир. Словно вышвырнули меня на зыбкую почву, по которой я не умею ходить, где каждый шаг грозит смертью…
Эти потрясающие герои моих детских снов (прошлая жизнь представлялась именно сном) оказались лживыми актеришками. Может, в прошлом, о котором мне пока ничего не известно, они и ведали вкус искренности, но с тех пор она потеряла для моих родителей всякое значение, стала пустым звуком… Я по-прежнему любила родителей, но теперь эта любовь была густо замешана на гневе.
Почему?! Почему они лишили меня веры в них, таких добрых и благородных? Что это, как не предательство?! Как могли они играть в благородство, имея за спиной такое прошлое? Обида и горечь переполняли меня.
Конечно, глупо обижаться на то, что родители оказались такими, а не иными. Все равно что предъявлять солнцу претензии, что оно не так всходит и заходит. Да и вообще, если они смогли выбраться из грязи, со дна человеческой жизни, то можно лишь гордиться такими предками… Я искала оправдания для них, но не находила. Кого угодно оправдала бы, только не их, самых близких и дорогих мне людей, богов моего семейного Олимпа…
Меня воспитывали в атмосфере терпимости, уважения к инакости других людей, в сочувствии к чужим недостаткам или ущербности. И вот результат – я стала безжалостным судией тем, кто привил мне такое миропонимание, причем не словами, а собственным повседневным примером.
Неужели все дети столь суровы и жестоки к своим родителям?
Однажды меня посетила мысль, что я никогда не замечала за родителями чего-нибудь, что не умещалось в рамках этого невероятного совершенства. Даже если в далеком прошлом они сотворили что-то дурное или неэтичное…
Но это была минутная мысль, вспыхнула и погасла. Во мне раздувался и рос Великий Инквизитор. Всем своим естеством я переживала великую обиду, которую они нанесли мне еще до моего рождения.
Как же эгоистично и легкомысленно они поступили! Прежде чем родители вызвали меня к жизни из соединения двух клеточек, они даже не подумали, что когда-нибудь на это их творение, наделенное умением переживать и страдать, свалится груз прошлого. Теперь я понимала, что должен был чувствовать прекраснейший и переполненный гордыней архангел Люцифер, изгнанный из рая. Я где-то о нем читала… не в истории ли ордена храмовников? Не помню… только знаю, что Люцифер был первородным сыном Бога, которого тот любил больше Иисуса.
Этот Бог, старый тиран, к тому же лицемер и врун, изгнал Люцифера за искренность. За то, что тот называл вещи своими именами.
Вот такие мысли кипели в моем мозгу. А что же мои демиурги?! Ничего не подозревая, они прельщали меня красотами Испании. Как всегда, говорили друг с другом нежно, тактично, проникновенно. Они все еще были влюблены друг в друга, словно юнцы, словно и не было у них взрослой дочери.
Я восторгалась своими предками, гордилась, что совместно прожитые годы, бесчисленные песчинки дней не лишили их взаимной привлекательности, что мама остается для отца Женщиной, а отец для мамы – Мужчиной.