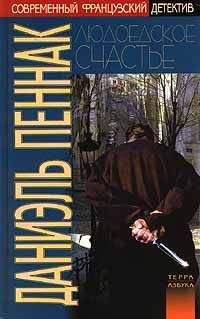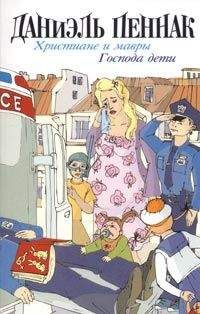И понесло же его показывать мне свою несчастную тюрьму! И ведь я в самом деле остался под впечатлением! Уму непостижимо: думаешь, что открываешь дверь в камеру, а попадаешь в студию, оборудованную по последнему слову техники, или в мастерскую живописи, светлую, как под открытым небом, в библиотеку, где царит монастырская тишина, где человек, склонившись над своим трудом – рядом корзина, полная исписанных листов, – едва поднимет голову, чтобы поприветствовать вошедших. Да и посетители здесь редки. Почти сразу после вступления в братство затворники Сент-Ивера вообще отказываются принимать гостей. Сент-Ивер говорит, что он здесь ни при чем. (Взмах белого крыла.) Очень скоро люди, попавшие туда, начинают чувствовать, что они обрели в этих стенах свободу, которую необходимо всячески оберегать от внешнего вмешательства. Если там, на воле, они совершили убийство, то это, по их мнению, именно из-за того, что им отказывали в праве на эту свободу.
– И их отказ от контактов с внешним миром простирается вплоть до неприятия каких бы то ни было средств массовой информации, мадемуазель Коррансон, – уточнил Сент-Ивер, особенно упирая на последнюю фразу. – Ни газет, ни радио, ни какого другого вестника времени. У нас даже свое собственное телевидение.
И далее, с совершенно ангельской улыбкой:
– В общем, единственное проявление внешнего мира, которое допускают мои подопечные, это присутствие Клары.
Ну да... это-то как раз меня больше всего и тревожит. Эти вдохновенные узники приняли мою Клару с ее непременным фотоаппаратом, который она немедля поставила на службу их иконографии. Она фотографировала их за работой, фотографировала стены, двери, замки, корзину, полную черновиков, два профиля – над планом будущих камер, их собственную телестудию, рояль, лоснящийся как тюлень под солнцем, на центральном дворе, задумчивый лоб, отражающийся на экране компьютера, руку скульптора в момент, когда долото вот-вот упадет на резец; потом – проявка, и эти узники увидели, как они оживают на снимках Клары, сохнущих на нитках по всей длине бесконечных коридоров. Они открыли для себя стремительное движение жизненного потока, в котором каждый жест наполнен особым смыслом, схваченный и запечатленный объективом Клары. Они вдруг обрели свою внешнюю сторону. Благодаря Кларе их взгляд обращен теперь не только в себя, но и на себя. Они любят Клару!
***
Итак, я, Бенжамен Малоссен, старший брат, тщетно ищущий сна, сидя на стуле среди моих головой-за-них-отвечаешь, я торжественно задаю вопрос: разве это жизнь для Клары? Разве девочка, отдавшая свое детство на воспитание отпрысков матери, не заслуживает лучшего в будущем, чем отправиться нянчить обреченные души к архангелу с небесно-голубыми глазами?
– Пора, Бенжамен.
Подвенечное платье уже на Кларе. Ангелы – белые, теперь я это точно знаю, непорочно-чистые в крепкой пене взбитых сливок. Каскады белоснежной фаты стремительно сбегают вниз, обволакивая их с макушки до пят воздушным облаком. Ангелы – это существа из воздуха и пены, у них нет рук, нет ног, одна неясная улыбка, утопающая в белом. И все разбегаются, чтобы не наступить на это облако, а то ангелы останутся голыми.
– Бенжамен, пора...
Семейство в сборе, все бесшумно обступили меня. Клара протягивает мне чашку кофе. Допустим. Верхом на своем стуле, как те предатели прошлых времен, которых расстреливали лицом к стене, я пью свой кофе. Общее молчание. Прерванное появлением Хадуша. Разодет, как уличный принц, костюм отлично сидит, будто на него шили, вытянутая физиономия, как у гостя на поминках: он уже оставил свой траурный венок в прихожей. Все это меня немного раззадорило.
– А, Хадуш, братишка, ну, как, получше?
Он смотрит на меня, качая головой, в приветственном оскале – обещание отыграться.
– Что это ты не идешь одеваться, Бен, или ты хочешь, чтобы счастье опоздало?
Следом за ним – Мо и Симон, в качестве парадного эскорта. Высокую фигуру Мосси выгодно подчеркивает каштанового цвета костюм. Под небрежно расстегнутым пиджаком – золотистый жилет прекрасно гармонирует с комплектом брелоков, что-то не припомню, чтобы он их когда-нибудь надевал до сего дня. Гвоздика в петличке и двухцветные штиблеты: он неотразим. Не хватает разве что борсалино и пары светлых подтяжек. Аромат корицы. Что до Симона, он благоухает свежей мятой, под свои огненно-рыжие космы подобрал зеленый фосфоресцирующий костюм, подогнанный по фигуре, и, естественно, платформы. Несмотря на эти дополнительные сантиметры, он так, пожалуй, и остался, что в высоту, что в ширину, примерно одинаковых размеров. Что-то вроде гигантского клопа с горящей головой.
– Мо! Симон! Потрясающе!
Ангелы летают, это я тоже могу подтвердить, и когда они порхают от какого-нибудь Араба к какому-нибудь Мосси, ангелы розовеют от удовольствия. Аплодисменты Жюли, Тяня, ребятни. Все же при появлении Араба и Мосси инспектор Ван Тянь слегка смутился. В то время, когда он расследовал это дело об убийствах бельвильских старушек, сам, переодевшись, как умел, вдовой, облачив свое высохшее тело в тайское платье с фальшивыми буферами, Мо и Симон первыми его раскусили, признав в нем переодетого легавого. Тяня с тех пор мучила эта незаживающая рана, нанесенная его самолюбию. Что до этих двух любителей пострелять, им тоже не доставляло особого удовольствия появиться вот так, при параде, перед полицейским, который знал их как облупленных. Но благодаря проказам амура, который, как всегда, спутал все карты, дом Малоссенов превратился в своеобразную ООН, примирившую улицу с полицией. И потом, всеобщее внимание привлекает то, что Тянь держит у себя на груди, в кожаном конверте. Маленькое, бледное от бешенства существо, в платьице таком же белом и почти таком же пышном, как у Клары. Верден – шесть месяцев в жизни и столько же в гневе, Верден – маленькие сжатые кулачки, грозящие всему миру. Таким образом, Тянь, когда у него на руках Верден, постоянно представляет непосредственную угрозу для всего, что его окружает. Мы все давно уже в курсе: с подобным оружием Тянь может беспрепятственно взять любой банк.
Кто-то все же произносит:
– Какая лапочка!
Меня другое заботит:
– Зачем это платье? Верден тоже выходит замуж? Не за тебя ли, Симон?
А неплохая идея, если разобраться, сбыть с рук моих сестричек, всех трех разом: Клару – кюре, Верден – аятолле, а Терезу – Тяню, если он намерен вернуться в родное лоно буддизма. Политеистический Вселенский собор, в любом случае, место в раю мне обеспечено, какой бы масти ни оказался Кукольник на небесах.
– Да нет, Бенжамен, ты что, забыл, сегодня же ее крестины.
Ах да! Ну, извините, запамятовал. Чтобы венчаться в церкви, Клара должна была сначала креститься, вот она и решила заодно включить и Верден в эту погоню за нимбами. При этом известии глазенки Малыша выпучились от зависти, вылезая из-под розовых стекол очков; и он туда же:
– Я тоже хочу, чтобы меня погрузили...
Но здесь я уже был непоколебим:
– Погрузишься, когда будешь таким же умным, как Верден!
Потому что, я в этом глубоко убежден, Верден в своей изначальной злобе уже родилась мудрой, как столетняя старуха. И если я пошел на это, так только потому, что мне кажется маловероятным, чтобы кто-либо вообще был в состоянии крестить Верден без ее собственного на то согласия. Она вся кипит от злобы, наша Верден, так, пожалуй, и святая вода в кропильнице испарится! Единственное событие этого дня, которое я жду даже с некоторым нетерпением: капля святой водицы взорвет Верден и всю римско-католическую церковь в придачу.
За спиной у Тяня – Жереми и Малыш, тоже при параде. Блейзеры цвета морской волны и штаны – мышино-серого, оба прилизаны на прямой пробор, безупречный, как помыслы на причастии. Спасибо Терезе, она их приодела. И себе подобрала то же самое, только вместо брюк нацепила юбку-плиссе, что, впрочем, никак ее не изменило. Тереза всегда остается Терезой. Надень на нее какое-нибудь мини в блестках, в духе диско-латино, она все равно осталась бы такой же непробиваемо чопорной, – свойство, сообщаемое ей близостью к звездам. Вчера вечером, за ужином, я нагнулся и спросил ее на ухо: «„Смерть – процесс прямолинейный”, Тереза, что ты думаешь об этой фразе?» Она даже не взглянула на меня. Сразу ответила: «Это верно, Бен, и продолжительность жизни зависит от скорости пули». И прибавила со знанием дела: «Но тебя это не касается, ты умрешь в своей постели в день своего девяностотрехлетия». (Она думала, что успокоила меня, а я так не думал, подводя итог: это сколько же мне еще отмеривать до моей девяносто третьей зарубки! Я несколько раз успею умереть, прежде чем доживу дотуда.)
Жереми направился через всю комнату, нещадно скрипя начищенными до блеска башмаками.