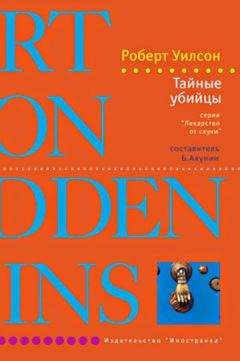— Раньше вы говорили мне, что эту боль вам причиняет любовь, — сказала Агуадо. — Вы по-прежнему думаете, что это любовь?
— Нет, — ответила Консуэло спустя несколько долгих минут. — Это было чувство вины из-за того, что я совершила, и печаль из-за того, что могло быть.
— Вернитесь в то время, когда вы стояли на залитой дождем улице. По-моему, вы мне говорили, что смотрели на элегантных людей, которые выходили из художественной галереи. Вы помните, о чем вы думали, перед тем как решили стать как они, «заново придумать» себя?
Последовало долгое молчание. Агуадо не шевелилась. Она смотрела прямо перед собой своими невидящими глазами и ощущала пульс под своими пальцами, как разматывающуюся нить.
— Я почувствовала раскаяние, — произнесла Консуэло. — Я подумала, что лучше бы я этого не совершала. И когда я увидела людей, которые выходили на улицу, я подумала: вот они — не из тех, кто позволил бы себе дойти до такого состояния. Тогда я и решила перестать быть этой бедной, жалкой, одинокой личностью на мокрой улице и стать кем-то еще.
— И хотя вы всегда «осознавали» то, что совершили, все же чего-то недоставало. Чего?
— Того человека, который это совершил, — ответила Консуэло. — Меня.
Ордеры на обыск дома Эдуардо Риверо, офисов «Фуэрса Андалусия», квартиры Анхела Зарриаса и резиденции Агустина Карденаса были выписаны в 7.30 утра. К 8.15 эксперты, вошедшие в помещения, уже успели скопировать содержимое компьютерных дисков и, собирая вещественные доказательства, партиями отправляли их в управление полиции. Комиссар Эльвира, все шесть сотрудников отдела убийств и три человека из антитеррористического отдела КХИ в 8.45 собрались в управлении полиции на стратегическое совещание. Была выдвинута идея: команда из девяти человек будет допрашивать трех подозреваемых в течение тринадцати с половиной часов, с несколькими перерывами. Чтобы подозреваемые не успели установить слишком близкие связи со следователями и привыкнуть к определенному стилю допросов, было решено, что каждый член команды будет допрашивать каждого подозреваемого по полтора часа. Пока первые три опрашивающих будут работать, следующая смена будет наблюдать за процессом, а третья смена — отдыхать или обсуждать результаты. Обед будет в три часа дня, тогда же пройдет еще одно тактическое совещание. Следующий цикл продлится с четырех дня до десяти вечера, и, если никто из подозреваемых не поддастся, будет устроен перерыв на ужин, а завершающая серия допросов начнется в полночь и продлится полтора часа.
Цель допросов — не убедить задержанных сознаться в убийстве Татеба Хассани, а вынудить их рассказать, кто свел с ним «Фуэрса Андалусия», почему его наняли, куда отправляли документы, которые он делал, и кто еще присутствовал на ужине, где был отравлен Татеб Хассани.
Всеми владела усталость. Когда совещание кончилось, раздались вздохи, руки ерошили волосы, снимались пиджаки, закатывались рукава рубашек. Было решено, что Фалькон сначала возьмет Анхела Зарриаса, Рамирес будет обрабатывать Эдуардо Риверо, а Баррос начнет с Агустина Карденаса. Как только им сообщили, что подозреваемых привели в комнаты для допросов, они спустились вниз.
Феррера должна была беседовать с Анхелом Зарриасом после Фалькона. Они стояли перед стеклянным смотровым окном, глядя на него. Он сидел за столом в белой рубашке с длинными рукавами, сложив ладони и не отрываясь глядя на дверь. Он выглядел спокойным. Фалькон почувствовал себя слишком уставшим для того, чтобы с ним бороться.
— Вы увидите, что Анхел Зарриас — очень обаятельный человек, — предупредил Фалькон. — Особенно ему нравится общаться с женщинами. Я не очень хорошо его знаю, потому что он из тех, кто держит тебя своим обаянием на расстоянии. Но за всеми их действиями должен стоять какой-то реальный человек. Фанатик, который и стал главной пружиной заговора. Вот до кого мы хотим добраться, а когда мы до него доберемся, мы хотим выставить его на всеобщее обозрение, и пусть это длится как можно дольше.
— И как вы собираетесь это сделать? — поинтересовалась Феррера. — Он же, можно сказать, ваш зять.
— Я кое-чему научился у Хосе Луиса. — Фалькон кивнул на комнату, где сидел Риверо и куда только что вошел Рамирес.
— Тогда я буду наблюдать за вами обоими, — пообещала Феррера.
Анхел Зарриас поднял глаза, когда Фалькон открыл дверь. Он улыбнулся и встал.
— Рад, что ты пришел, Хавьер, — проговорил он. — Так рад, что ты пришел. Ты говорил с Мануэлой?
— Я говорил с Мануэлей, — ответил Фалькон. Усевшись, он не стал включать записывающую аппаратуру и проводить обычную процедуру представлений. — Она очень рассержена.
— Что ж, люди по-разному реагируют, когда их близких людей арестовывают среди ночи по обвинению в убийстве, — промолвил Зарриас. — Вполне могу себе представить, что некоторые из-за этого сердятся. Не знаю, как бы я сам чувствовал себя на ее месте.
— Она была рассержена не из-за твоего ареста, — сказал Фалькон.
— Она довольно свирепо обошлась с твоими ребятами, — заметил Анхел.
— Это после того, как я с ней поговорил, она… впала в необузданную ярость, — сказал Фалькон. — Думаю, это верное описание.
— Когда ты с ней говорил? — взволнованно-озадаченно спросил Анхел.
— Сегодня, часа в два ночи, — ответил Фалькон. — К тому времени она уже оставила у меня на мобильном около пятидесяти посланий.
— Разумеется… Это в ее духе.
— Как ты знаешь, иногда с ней страшновато иметь дело, когда она взвинчена, — заметил Фалькон. — Я не мог просто сообщить, что ты арестован по подозрению в убийстве, и отключиться. Ей обязательно надо было узнать, кто, где и почему.
— И что же ты ей сказал?
— Я вынужден был рассказать ей лишь часть, так как, разумеется, тут есть законодательные ограничения, но, могу тебя уверить, я сказал ей только правду.
— И какую же «правду» ты ей поведал?
— А вот это ты должен сказать мне, Анхел. Ты — тот, кто совершил преступление, я — тот, кто задает вопросы, а между нами — правда. Идея в том, чтобы в ходе беседы мы постепенно добрались до самой ее сути, но это не мое дело — говорить тебе о том, что, по моему мнению, ты совершил. Это твоя работа.
Наступило молчание. Зарриас посмотрел на выключенную аппаратуру. Фалькон с удовольствием отметил, что он смутился. Он наклонился, включил запись и представил участников допроса.
— Почему ты убил Татеба Хассани? — спросил он, откидываясь назад.
— А если я скажу, что не убивал его?
— В рамках этого допроса мы можем для удобства считать, что между убийством и заговором с целью совершения убийства нет разницы, — проговорил Фалькон. — Теперь тебе будет легче ответить на вопрос?
— А если я скажу, что не имею никакого отношения к убийству Татеба Хассани?
— Твое имя, как и имя Агустина Карденаса, уже назвал организатор последнего ужина Татеба Хассани, ставшего для него роковым, — Эдуардо Риверо. Кроме того, о твоем присутствии на месте преступления сообщил один из слуг, работающих в его доме, — сказал Фалькон. — Так что тебе очень трудно будет доказать, что ты не имеешь никакого отношения к смерти Хассани.
Анхел Зарриас пристально посмотрел Фалькону в лицо. На Фалькона смотрели так и раньше. У него была старая методика, которую он применял до своего душевного слома 2001 года: отвечать на это взглядом, закованным в стальную броню. Новая же методика была такова: принимать эти взгляды, доводить их до края глубокого колодца, таящегося у него в душе, и приглашать заглянуть вниз. Это он и проделал сейчас с Анхелом Зарриасом. Но Зарриас не пошел за ним. Он выглядел твердым человеком, но он никогда не доходил до края. Он отвел глаза и стал осматривать комнату.
— Давай не будем слишком погружаться в детали, — проговорил Фалькон. — Меня не интересует, кто куда подложил цианид или кто присутствовал, когда Агустин Карденас делал свою чудовищную работу. Хотя меня действительно занимает, чья это была идея — зашить Татеба Хассани в саван. Вы нашли для него подходящие исламские молитвы? Вы его вымыли, перед тем как зашить? Потому что нам это было трудновато определить, когда мы нашли его, раздувшегося и воняющего, в разодранном саване, на свалке под Севильей. Но, мне кажется, это было неплохое проявление уважения к одной религии со стороны другой. Это была твоя идея?
Анхел Зарриас оттолкнул стул и стал возбужденно мерить шагами комнату.
— Ты уже сейчас не хочешь мне отвечать, Анхел, а ведь мы только начали.
— Какого черта, чего ты от меня ждешь?
— Ладно. Я знаю. Это трудно. Ты всегда был хорошим католиком, горячо верующим человеком. Тебе даже удалось заставить Мануэлу посещать службы, и она наверняка обожала тебя за это, — проговорил Фалькон. — Чувство вины ослабляет хороших людей — таких, как ты. Жить со смертным грехом на душе страшно, и не менее жутко готовиться исповедаться в ужаснейшем из человеческих злодеяний. Но я облегчу твое положение. Давай на время забудем о Татебе Хассани и побеседуем на более приятные для тебя темы — о том, о чем ты сможешь говорить, что расслабит твои голосовые связки, так что потом ты, быть может, сумеешь порассуждать и о более сложных материях.