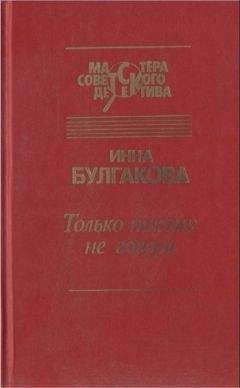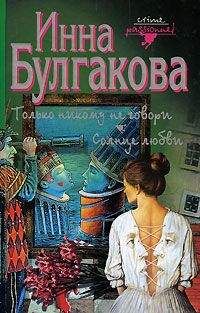— А почему «Люлю»?
— Очевидно, интимное прозвище. Никогда не слышал, чтоб ее кто-нибудь так называл.
— Что же вы делали дальше?
— Да ничего особенного. Отнес сумку в нашу комнату, потом вышел: вся компания уже дожидалась меня у крыльца — объявил, что голова разболелась. — Борис помолчал. — Уверяю вас, эта любовь им бы недешево обошлась. Но я не успел. Как говорится, распорядилась сама судьба.
Нет, математик и в роли обманутого мужа был совсем не смешон. Он был опасен — вот подходящее слово.
— Судьбе кто-то крепко помог. Как вы думаете, почему Анюта скрывает, что чутко спит?
— Она и никогда не любила о себе распространяться. Но здесь что-то другое. Возможно, не скрывает, а кого-то покрывает?
— У меня постоянное чувство, Борис Николаевич, что вы многое недоговариваете.
— А вы думайте, анализируйте, вы ж писатель, психолог. Копаться в чужом белье — ваша профессия.
— Продолжаем копаться в вашем. Как вам взбрело в голову доложить отцу об Анюте в день похорон?
— Водки выпил — отказали тормоза, эти самые сдерживающие центры в мозгу. Ну, не смог больше выносить их присутствия, встал и вышел. В прихожей меня догнал Павел Матвеевич… не знаю, за мной он пошел или еще зачем… Во всяком случае, он меня окликнул и спросил: «Куда ты собрался?» Я сказал, что голова дико болит, поеду к себе, может усну. Он предложил свою спальню. Я уперся: поеду. Тогда он говорит: «Как вам угодно. Со мною и дочерью останется наш друг». Это «вам» и «друг» меня взбесили, и я высказался: «Вашему другу и вашей дочери мы мешаем. У них же большая любовь, не знали?» Он побледнел, схватил меня за руку и прошептал: «Не может быть». Я говорю: «Хотите, докажу?» И тут я почувствовал, что он сходит с ума.
— То есть?
Он молча смотрел на меня довольно долго, но как будто не видел. И вдруг пробормотал что-то неразборчиво… что-то насчет лисиц…
— Насчет чего?
— Лисиц… Точнее, про каких-то лис… Потом сказал четко и внятно: «Полевые лилии. Только никому не говори. Ты никому об этом не скажешь?» Мне стало не по себе, я вырвал руку и ушел. Да, я сбежал! От ужаса, от моей прошлой жизни, от всего. И вчера он меня встретил этими же словами. Писательская любознательность, черт бы вас взял!
— Бросьте! Вы три года мечтали высказаться, что, не так? Вы все четверо об этом мечтали, а теперь врете и скрываете. И помогаете убийце. Но со мной эти игры не пройдут!
Борис поглядел на меня пристально.
— Чего это вы так разволновались, а? Сегодня, кажется, я подкинул вам кое-какую пищу для размышлений. Или пища не нравится? Разочаровались в женщине? То ли еще будет.
Когда, расставшись с математиком, я вернулся в палату, Анюта еще сидела возле отца. Она явно дожидалась меня, обернулась на звук шагов и тотчас заговорила:
— Мне надо вам кое-что сказать.
Мне вообразилось вдруг, будто она хочет исповедаться в своих любовных похождениях, и я пробормотал вполголоса:
— Может, выйдем?
Анюта поглядела удивленно — безмятежный пустой взор, стальные нервы — и пожала плечами.
— Мне скрывать нечего.
Внезапная злость вспыхнула во мне. Интересно, с кем она теперь чувствует себя настоящей женщиной? С эстетом? Или ей нравится разнообразие?
— Помните, вы спрашивали, чем занималась Маруся те три дня, что мы жили вдвоем на даче?.. Ну, она переписывала билеты, помните? Так вот, билеты исчезли.
Я с усилием переключился на другую тему и глупо спросил:
— Куда исчезли?
— Не знаю. Их нет.
— Где их нет? Послушайте, Анна Павловна, давайте оставим все эти намеки и хитрости. Вы не хотите быть со мною откровенны? Ладно, перебьемся, но учтите…
— Кажется, вы бредите, — перебила Анюта высокомерно и поднялась с табуретки. — Я вам больше слова не скажу.
— Простите, — ответил я смиренно и повторил вранье математика: Дико болит голова. Присядьте, пожалуйста, и расскажите о билетах.
— Вы мне о них напомнили, заставили вспомнить. Маруся взяла на дачу учебники и несколько тетрадей. Милиция ее вещи осматривала, и я подтвердила, что все на месте. Я никакого значения этому не придавала: кому нужны ее тетрадки? Вообще мне было не до того. Все так и оставалось в светелке почти два года, дверь на крючке. А прошлым летом я наконец собрала Марусины вещи и отвезла в Москву. Учебники и тетради заперла в письменном столе в ее комнате. Мы с папой туда никогда не заходим: у нас трехкомнатная квартира, у каждого по комнате. Я хочу сказать, что к вещам сестры никто, кроме меня, не прикасался и как-то потеряться они не могли. Понимаете? Когда вы спросили, чем занималась те три дня Маруся. я вспомнила и как будто увидела у нее в руках эти билеты.
— Как они выглядят?
— Они переписаны в школьную тетрадку, от руки. Вопрос по русской грамматике — и тут же на него краткий ответ. Обыкновенная тетрадь в клетку, зеленого цвета, но Марусины были новенькие, а эта очень потрепанная, засаленная, видно, что переходила из рук в руки. Я вам тогда ответила, что билеты остались у нас, и вдруг подумала, что в прошлом году среди других тетрадей их, кажется, не было. Но точно вспомнить не могла. Съездила в Москву, проверила: да, билеты, переписанные Марусей, на месте, а та, Петина тетрадка, исчезла.
Вы просмотрели тетради в тот день, когда Пете звонили?
— Ну да.
— А мне говорите об этом только сегодня.
Анюта нахмурилась:
— Не советую на меня давить.
— Ладно… Итак, билеты. Могла их потерять сама Маруся?
— Не думаю. За те три дня мы с ней никуда не ходили, только на Свирку. Кому нужно подбирать какую-то грязную тетрадь? Через рощу и луг мы обычно шли своим маршрутом, не тропинками, а по траве. Уже в четверг я все эти места осматривала.
— Но в среду утром вы пошли на пляж через поселок. Маруся могла обронить…
— Исключено. В среду после пляжа на нашем месте она переписывала билеты, я помню. Кроме того, свою тетрадку она вкладывала в эту, Петину, и если бы потеряла, то обе. Однако ее тетрадь на месте.
Я подумал с минуту и сказал:
— Анна Павловна, меня удивляет не столько пропажа билетов… мало ли куда они могли деться за три года…
— Никуда не могли. Все Марусины вещи были заперты и все целы.
— Повторяю: удивляет не пропажа, а то значение, что вы ей придаете. Билеты никому не были нужны — только Пете, так?
— Так.
— Значит, перед нами два варианта: или билеты потерялись, или их забрал Петя. Но ваши показания исключают и то и другое. И билеты не терялись, и Маруся с Петей не виделись. Ведь так? Ведь вы в среду не разлучались с сестрой?
— Нет.
— В таком случае исчезновение билетов необъяснимо.
Какое-то время мы молча и недоверчиво глядели друг на друга.
— Анна Павловна, когда Дмитрий Алексеевич собирается к нам в больницу? Он мне нужен.
— Откуда я могу знать?
— Насколько я понял, это ваш самый близкий друг.
— Самый близкий папин друг. А мне никто не нужен, — сказала Анюта и ушла.
Едва дверь за ней захлопнулась, как мои помощники, прикованные к своим койкам, уставились на меня в нетерпеливом ожидании.
— Так вот, друзья, следствие вошло в стадию, которая требует соблюдения полной тайны. Никому ни слова, даже самому дорогому родственничку, самому верному дружку — или наши пути расходятся.
— О чем разговор! — заверил Игорек, а Василий Васильевич посмотрел на меня укоризненно и прямо приступил к делу:
— Ну, Ваня, виделся с математиком?
— Он расстался с женой, потому что она любовница Дмитрия Алексеевича, — я вкратце пересказал наш разговор с Борисом. — Тут особенно интересны два обстоятельства. Во-первых, реакция Павла Матвеевича. Или у него действительно начинался бред, или его слова имеют какой-то глубокий непонятный смысл. Полевые лилии. Он до сих пор об этом говорит.
— Иван Арсеньевич, они ж на базаре их купили на могилу. Ну, художник рассказывал?
— Если Павел Матвеевич вспомнил вдруг те лилии, значит, он уже помешался. «Только никому не говори» — почему? Почему о них нельзя говорить?
— Нет, ребята, — сказал Василий Васильевич задумчиво, — тут что-то другое, тут какой-то странный бред, главное — устойчивый, на годы. И ведь не садовые лилии он вспоминает, а полевые. У нас такие вроде и не водятся. В Библии про лилии полевые говорится. Вроде того, что вот они не трудятся, не прядут, а никакие царские одежды с ними по красоте не сравнятся. То есть смысл тот…
— А, я читал! Макулатурная книжка! — воскликнул Игорек. — Француз один написал про лилии… ну, старые времена. Здорово закручено.
— Вероятно, ты имеешь в виду роман Дрюона «Негоже лилиям прясть», — вмешался я. — Там лилии — символ французской короны, старинный королевский герб. Думаю, ни Евангелие, ни Дрюон нам не помогут.
Мы посмотрели на Павла Матвеевича, он спал. Неужели проклятое известие о дочери и друге и было тем последним ударом, что добил его? В полутемной прихожей (именно полутемной — так виделось мне: тусклая лампочка, завешанное простыней зеркало, духота и безысходность) стоят двое…