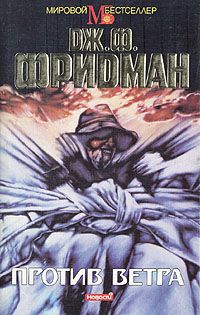— Вы сели на землю рядом с трупом.
— Ну да.
— А почему не убежали?
— Я не мог двинуться с места.
— Значит, сели на землю. И сколько вы просидели?
Он качает головой.
— Час?
— Как минимум. Может, и дольше.
— А что стали делать потом?
— Я снова почувствовал, что становлюсь сам не свой. Смотрел и видел, что лицо у него стало бледнеть, словно у мертвой рыбы, знаете, такой бледноватый оттенок, как бывает у мертвой рыбы, — и тогда я снова стал сердиться на него. Сердиться по-настоящему. Я не хотел убивать его. Я просто хотел провернуть с ним сделку и отправиться дальше по своим делам. В жизни мне приходилось совершать дурные поступки, не отрицаю, но никогда еще не приходилось никого убивать. Клянусь. Вы ведь верите мне, правда?
— Да, верю, — отвечаю я, затем, выдержав секундную паузу, прошу: — Продолжайте. Что было потом?
— Я схватил нож, который он привез с собой, и принялся колоть его. Я плакал и ругал его за то, что он вынудил меня убить его без всякой на то причины.
— Вы стали колоть его ножом уже после того, как он умер?
— Он умер в ту секунду, когда прозвучал первый выстрел.
— То есть более чем за час до этого.
— Да.
— У него сильно шла кровь от ножевых ран?
Он качает головой.
— Крови почти не было. Кровь практически и не шла. Она к тому времени уже начала свертываться.
— О'кей. Продолжайте.
— Я понял, что мне надо спрятать его где-нибудь в стороне от дороги, потому что его довольно скоро найдут, а кто-то, может, и видел, как я привез его, или подкинул до мотеля, или еще что-нибудь, вот я и решил оттащить его в кусты.
— И это все? Потом вы ушли?
Он снова качает головой.
— Я отрезал ему член.
— Зачем?
— Потому что он заставил меня взять его в рот! Заставил меня сделать это. — Широко раскрытыми глазами обводит он взглядом зал суда, всматриваясь в лицо каждому, чтобы убедиться в том, что они видят его, убедиться, что они его понимают. — Он заставил меня сделать ему минет! — кричит он. — Он меня заставил!
— И поэтому вы это сделали, — риторически добавляю я.
— В том числе и поэтому.
— А еще почему?
— Потому что он это заслужил! — с вызовом отвечает Скотт Рэй. — Я же знал, что рано или поздно его найдут. Если бы этого не произошло, я бы сам вызвал полицию. — Он смотрит на меня, во взгляде читается вызов. — Мне хотелось, чтобы все знали, что он собой представляет. Что он не педик, а мошенник-виртуоз. Мне хотелось, чтобы все это поняли.
— Занятную историю вы рассказали, господин Рэй.
Робертсон становится лицом к Рэю. Если учесть, сколь ощутимые удары прошлись по его аргументации, держится он относительно спокойно. Но он же убежден в собственной правоте и до конца дней своих будет считать, что это дело рук рокеров, независимо от того, что скажет или сделает кто-то.
— Это не история. Это правда.
— Это вы так говорите.
— Совершенно верно! — В голосе Скотта звучат вызывающие нотки. — Я поклялся на Библии, что расскажу правду, что сейчас и делаю. Я не клянусь именем Иисуса Христа понапрасну.
— Правдоподобная история, — продолжает Робертсон. — Готов это признать.
— Это правда, черт побери! Я говорю правду.
— Не думаю, что правда в этом деле вообще теперь уже существует, господин Рэй. Теперь все это выглядит уже столь безумно, что правды нет. Вы говорите одно, она — другое, мои люди — третье, представители защиты — четвертое. У всех у нас собственное представление об истине, и, насколько я могу судить, ни одно не является истиной в последней инстанции.
— То, что я говорю, правда! — упорствует Рэй.
— В самом деле? — поддевает его Робертсон.
— Да. — «Да» у него как из железа.
Робертсон качает головой в знак несогласия и поворачивается к Мартинесу.
— Все, о чем нам рассказал свидетель, он мог почерпнуть из газет, журналов, телепередач, Ваша честь. В показаниях этого человека нет ничего нового, чтобы суд поверил истории, рассказанной им. Она заслуживает не большего доверия, чем показания Риты Гомес, которая то и дело меняла их.
— Вы что, хотите сказать, что не верите мне? — недоверчиво спрашивает Скотт.
— Я считаю, вы самый отъявленный лжец, которого мне когда-либо доводилось видеть!
— Черт побери, с какой стати мне являться сюда и говорить, что это моих рук дело, говорить, что меня одного нужно сажать в тюрьму, может, в газовую камеру, не знаю, как это делается, если я тут ни при чем?
— Не знаю. Может, кто-то втянул вас в это дело. Может, вы религиозный фанатик, который спит и видит, что только так он может спасти мир.
Я встаю с места.
— Ваша честь, такие заявления выглядят смехотворно. Этот человек сам отдал себя в руки правосудия. Уверен, вы относитесь к этому обстоятельству с должным уважением и пониманием.
Мартинес наклоняет голову в знак согласия.
— Тогда где же улики? — набрасывается на меня Робертсон. — За все время, пока мы слушали здесь сбивчивые, противоречивые показания свидетелей, вы не представили ни одной мало-мальски реальной улики в подтверждение этих непостижимых, смехотворных обвинений. Вы не продемонстрировали ни одного бесспорного вещественного доказательства, из которого следовало бы, что мы имеем дело не со скрупулезно разработанным вымыслом, не с мастерски сотканной паутиной лжи. Ни одного реального факта, опирающегося на вещественные доказательства.
Я гляжу на него секунду, как бы прикидывая, есть ли хоть крупица истины в его словах. Мартинес тоже смотрит на меня: осталось еще одно, господин адвокат, молча говорит он мне, представьте нам хотя бы одно реальное доказательство.
— Где же пистолет, якобы еще не остывший после выстрела? — спрашивает Робертсон.
— Его так и не нашли, — отвечаю я.
— Так и не нашли! — саркастически повторяет Робертсон.
Обойдя стол, за которым расположились представители защиты, я подхожу к месту для дачи свидетельских показаний. У французов есть поговорка: «Месть — это блюдо, которое лучше всего подавать холодным». После двух жутких лет мы с подзащитными сейчас закатим пир, который заслужили сполна. Я никогда больше не размажу по стенке противника в зале суда так, как сейчас сделаю это с Робертсоном.
— Господин Рэй. Хочу задать вопрос насчет пистолета, который вы выхватили у Ричарда Бартлесса и из которого затем убили его. Куда он подевался?
— Я его спрятал.
— А вы помните где?
— Да.
Он выбросил пистолет в водопропускную трубу на склоне горы, покидая то место, где произошло убийство. Полиции понадобилось меньше часа на то, чтобы найти его.
— Ваша честь! Мы ходатайствуем о снятии судом всех обвинений с наших подзащитных и требуем их незамедлительного освобождения.
— Протест! — безжизненным тоном бросает Робертсон. По крайней мере, в последовательности при отстаивании собственной точки зрения ему не откажешь.
Мартинес взглядом пригвождает его к месту.
— Да будет так!
Он ударяет судейским молотком по столу.
— Подсудимые свободны. И вот что, господа… суд приносит вам свои самые искренние извинения. Уверен, от лица всех, кого коснулось это дело… — он окидывает Робертсона суровым взглядом, — хочу сказать: жаль, что вся эта история вообще имела место.
В зале суда никого не осталось, кроме рокеров и нас с Мэри-Лу. После того как мы вдоволь наобнимались и натанцевались и до каждого дошло, что теперь он свободен, Одинокий Волк бочком протискивается ко мне.
— Ну почему, старик? Почему ты не пошел на попятный? Почему не бросил нас, как остальные?
Тот же вопрос я задавал себе — и неоднократно.
— Потому что хотя бы раз, один раз, хотел сделать все так, как нужно.
Уже стемнело. Все разошлись. Мэри-Лу уже дома и сейчас ждет меня.
А я поехал в горы и вот стою неподалеку от того места, где все произошло. Здесь тихо, мирно, ничто не напоминает о насилии и смерти, о страшных событиях, которые еще дают о себе знать. Хотя, может, они скоро забудутся. Возьмут свое дождь, снег, годы, заполненные переездами, невероятным напряжением, борьбой с собой и другими. Многое изменилось, но многое и осталось. И я снова приведу сюда своего ребенка и, пока мы здесь, почувствую небывалый покой. Покой — и ничего больше.
Американский изобретатель и промышленник (1886–1956), наибольшую известность получил за разработку метода замораживания продуктов питания. — Здесь и далее прим. перев.
1 акр — 0,405 гектара.
Род Маккьюэн (род. в 1933) — известный американский поэт, композитор, писатель, певец, стихи которого отличаются образностью и легким налетом сентиментальности.