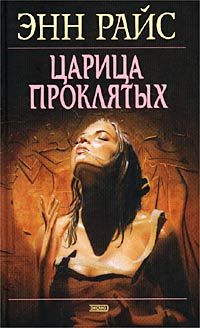Мы посмотрели друг на друга, потом я обнял его, тепло и крепко, и улыбнулся. Я даже не знал, зачем я это сделал, но он был так терпелив и серьезен, в нем, как и во всех остальных, произошла некая глубинная перемена, но для него, как и для меня, она была мрачной и болезненной.
Она имела отношение к борьбе добра и зла, которую он понимал совершенно так же, как я, потому что именно он много лет назад научил меня понимать ее. Именно он сказал, что мы всегда должны бороться с этими вопросами, что простое решение нам не нужно, но что мы всегда должны испытывать страх.
Я обнял его и потому, что любил его и хотел быть к нему поближе, и при этом не хотел, чтобы он оставил меня прямо сейчас, сердитый и разочарованный.
– Ты будешь соблюдать наши законы, не так ли? – неожиданно спросил он со смесью угрозы и сарказма – и, возможно, какой-то толики любви.
– Естественно! – Я снова пожал плечами. – Кстати, что там за новые правила? Я забыл. Ах да, не делать новых вампиров, не исчезать без следа, скрывать следы убийства.
– Ты чертенок, Лестат, ты это знаешь? Сущий дьявол.
– Позволь задать тебе один вопрос, – сказал я. Я сжал руку в кулак и легко дотронулся до его локтя. – Эта твоя картина, «Искушение Амадео», та, что находится в подземельях Таламаски...
– Да?
– Ты не хотел бы получить ее обратно?
– О боги, нет. Это жуткая вещь. Можно сказать, мой черный период. Но я бы очень хотел, чтобы они вытащили ее из своего проклятого подвала. К примеру, повесили ее в парадном зале. В каком-нибудь приличном месте.
Я засмеялся.
Внезапно он посерьезнел. У него зародились подозрения.
– Лестат! – резко сказал он.
– Да, Мариус?
– Оставь Таламаску в покое.
– Ну конечно! – Я еще раз пожал плечами и еще раз улыбнулся. Почему бы и нет?
– Я не шучу, Лестат. Я говорю серьезно. Не связывайся с Таламаской. Мы понимаем друг друга, не так ли?
– Мариус, тебя на удивление легко понять. Слышишь? Часы бьют полночь. В это время я всегда совершаю обход острова Ночи. Пойдем?
Я не ждал его ответа. Выходя из двери, я услышал его милый снисходительный вздох.
Полночь. Песнь острова Ночи. Я прошелся по переполненным людьми галереям. Хлопчатобумажная куртка, белая футболка, лицо наполовину скрыто гигантскими темными очками, руки засунуты в карманы джинсов. Я наблюдал за тем, как голодные покупатели ныряют в открытые двери, глазеют на горы сияющих товаров, на шелковые рубашки в пластиковой упаковке, на лоснящийся черный манекен, закутанный в норку.
За сверкающим фонтаном с танцующими перьями, состоящими из мириадов капель, на скамейке устроилась старушка, держащая в трясущейся руке бумажный стаканчик с кофе. Ей было сложно поднести его к губам. Проходя мимо, я улыбнулся и она дрожащим голосом сказала:
– Старикам сон не нужен.
Из коктейль-бара лилась тихая музыка. По отделу видеокассет прохаживались молодые головорезы... О, эта жажда крови! Я повернул голову, и хриплый треск и вспышки остались позади. Сквозь дверь французского ресторана я заметил быстрое движение женщины, поднимающей бокал с шампанским, услышал приглушенный смех. Театр полон черно-белых гигантов, болтающих по-французски.
Мимо прошла молодая женщина – темная кожа, соблазнительные бедра, пухлый рот. Жажда крови достигла пика. Я шел вперед, загоняя ее в клетку. Кровь не нужна. Теперь ты силен, как старейшие. Но я чувствовал ее вкус, я оглянулся и увидел, что она сидит на каменной скамье, из-под узкой короткой юбки выглядывают голые колени, и она не сводит с меня глаз.
О, Мариус был прав, прав во всем. Я сгорал от неудовлетворенности, сгорал от одиночества. Я хотел стащить ее с этой скамьи: «Ты знаешь, кто я такой?»
«Нет, остановись, не выманивай ее отсюда, не нужно, не уводи ее на белый песок, подальше от огней галереи, где камни опасны, а волны яростно бьются о берега бухты».
Я подумал о том, что она говорила нам об эгоизме и алчности. Вкус крови на языке... Если я немедленно не уйду отсюда, кто-нибудь умрет...
Конец коридора. Я вложил ключ в скважину стальной двери между лавкой, торговавшей китайскими ковриками, сделанными маленькими девочками, и табачным магазином, владелец которого, прикрыв лицо журналом, уснул среди голландских трубок.
Безмолвный проход, ведущий в недра виллы.
Кто-то из них играл на пианино. Я прислушался. Пандора, и музыка, как всегда, проникнута восхитительным мраком, но она больше, чем прежде, напоминает бесконечное начало – тема, постоянно ведущая к кульминации, которая никогда не наступит.
Я поднялся по лестнице и вошел в гостиную. О, сразу можно определить, что это – дом вампира: кто еще сможет жить при свете звезд и нескольких беспорядочно расставленных свечей? Блеск мрамора и бархата. А там – Майами, где никогда не гаснут огни.
Арман все еще играл с Хайманом в шахматы и проигрывал. Дэниел лежал в наушниках и слушал Баха, то и дело поглядывая на черно-белую доску, чтобы проверить, сдвинулись ли с места фигуры.
На террасе, лицом в воде, зацепившись большими пальцами за задние карманы, стояла Габриэль. Одна. Я подошел к ней, поцеловал ее в щеку и заглянул ей в глаза; получив наконец скупую улыбку, которой жаждал, я повернулся и побрел назад, в дом.
В черном кожаном кресле сидел Мариус и читал газету, сложив ее, словно джентльмен в частном клубе.
– Луи уехал, – сообщил он, не отрываясь от чтения.
– Что значит – уехал?
– В Новый Орлеан, – сказал Арман, не отводя взгляда от шахматной доски. В вашу квартиру. Туда, где Джесс видела Клодию.
– Самолет ждет, – добавил Мариус, читая газету.
– Мой человек может отвезти тебя на взлетную полосу, – сказал Арман, продолжая партию.
– В чем дело? Что это вы такие заботливые? С чего мне ехать за Луи?
– Думаю, тебе стоит привезти его обратно, – сказал Мариус. – Не нужно ему оставаться в той старой квартире в Новом Орлеане.
– Думаю, тебе стоит выбраться отсюда и что-то предпринять, – сказал Арман. – Ты слишком долго просидел в своей норе.
– А, вижу, что у нас будет за община; советы со всех сторон, все краем глаза следят друг за другом. Почему вы вообще отпустили Луи в Новый Орлеан? Что, нельзя было его остановить?
Я приземлился в Новом Орлеане в два часа ночи. Оставил лимузин на Джексон-сквер.
Как все чисто, новые плиты на тротуаре, цепи на воротах, чтобы бродяги не спали на траве вопреки двухсотлетнему обычаю. Кафе и бары заполнены туристами, а раньше здесь были прибрежные таверны, очаровательные гнусные местечки, где охота становилась неотразимой, а женщины были такими же бандитками, как и мужчины.
Но я любил это место, и всегда буду любить. Краски остались прежними. И даже на холодном, порывистом январском ветру в городе царила тропическая атмосфера, на нее влияли ровные мостовые, низкие здания, вечно движущееся небо, косые крыши, на которых поблескивают ледяные капли дождя.
Я медленно направился прочь от реки, впитывая исходящие от тротуаров воспоминания, слушая жесткую духовую музыку Рю-Бурбон, а затем свернул в тихую влажную темноту Рю-Рояль.
Сколько раз проходил я этим маршрутом в старые времена, выбравшись с набережной или из оперного театра, сколько раз останавливался я на этом самом месте, чтобы вложить ключ в скважину замка на воротах?
О дом, где я прожил отрезок человеческой жизни и где дважды чуть не погиб.
В старой квартире кто-то был. Кто-то, кто двигается тихо, но под чьими ногами скрипит паркет.
На первом этаже за зарешеченными окнами – аккуратный затемненный магазинчик: фарфоровые безделушки, куклы, кружевные веера. Я поднял глаза к балкону с коваными железными перилами, я вообразил, что там на цыпочках стоит Клодия и смотрит на меня, сжимая пальчиками перила. По плечам струятся золотые волосы, в них – длинная полоска фиолетовой ленты. Моя маленькая бессмертная шестилетняя красавица: «Лестат, где ты был?»
Вот чем он занимается, не так ли? Представляет себе подобные вещи.
Стояла мертвая тишина, то есть если не обращать внимания на трескотню телевизоров за зелеными ставнями и старыми, увитыми плющом стенами, на хриплый шум Бурбон-стрит, на мужчину и женщину, завязавших крупную ссору в доме на той стороне улицы.
Но рядом – никого, только сверкающие мостовые и закрытые магазины, да большие неуклюжие машины, припаркованные на тротуаре – на их горбатые крыши беззвучно падает дождь.
Некому было заметить, как я отошел, развернулся и, как встарь, быстро подпрыгнул на балкон, по-кошачьи тихо опустившись на пол. Через грязное стекло французских окон я заглянул в комнату.
Пусто, поцарапанные стены, какими их оставила Джесс. Наверху прибита доска, как будто кто-то однажды пытался проникнуть внутрь, но попался; столько лет – а пахнет паленым и углем.
Я бесшумно снял доску, но оставался внутренний замок. Получится ли у меня использовать новую силу? Смогу я заставить его открыться? Почему мне так больно думать об этом – о ней, о том, что в тот последний трепетный момент я мог бы ей помочь, мог бы свести