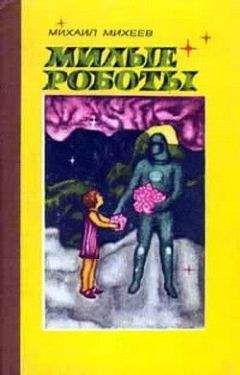— Правда? Неужели это можно определить?
— В детстве я повсюду подбирал навоз, чтобы удобрять поля. И засохшие коровьи лепешки, чтобы растапливать печь. Я до сих пор их подбираю. И могу вас заверить, Вуазне: если двое животных по-разному питаются, у них разный состав экскрементов.
— Понятно, — кивнул Вуазне.
— Когда мы получим результаты из лаборатории? — спросил Адамберг, набирая номер Данглара. — Поторопите экспертов. Самое срочное — оба образца навоза, бумажный носовой платок, отпечатки пальцев, измельчение останков убитого.
Адамберг отошел в сторону, чтобы поговорить с Дангларом:
— Сейчас уже почти пять, Данглар. Вы нужны нам здесь, в Гарше. В доме все убрали, мы возвращаемся в Контору, эксперты уже приступили к анализам. Да, секундочку. Сколько рук у этой индийской богини? Которую изображают в круге? У Шивы?
— Шива — это не богиня, комиссар. Это бог.
— Бог? Это мужчина, — пояснил Адамберг своим подчиненным. — Шива — мужчина. А сколько у него рук?
— Как когда. Ведь у Шивы широчайший спектр самых разных, порой противоположных друг другу функций, включающий в себя практически всё, от разрушения до созидания. Так что у него может быть и две руки, и четыре, а то и десять. Это зависит от того, что олицетворяет Шива на данном изображении.
— А что приблизительно он олицетворяет? — спросил Адамберг и включил громкую связь.
— Вот краткое, но емкое определение: «В пространстве, в средоточии Нирвана-Шакти, обретается великий Шива, сущность коего — пустота».
Комиссар взглянул на четырех своих помощников: похоже, они, как и он, ничего не поняли и сейчас делали ему знаки, чтобы он больше не расспрашивал Данглара. Они узнали, что Шива — мужчина, и на сегодня им этого было достаточно.
— А при чем тут Гарш? — поинтересовался Данглар. — Вам что, рук не хватает?
— Эмиль Фейян наследует все имущество Воделя, кроме обязательной доли, которая причитается Воделю-младшему. Мордан перестарался: объявил Эмилю, что подписано постановление о его задержании. Эмиль вырубил Мордана и смылся.
— И Ретанкур не погналась за ним?
— Она его упустила. Наверно, не успела задействовать все свои руки, и он сломал ей ребро. Мы вас ждем, майор. Мордан выбыл из игры.
— Ясное дело. Но у меня поезд отправится только в двадцать один тридцать. Вряд ли я сумею поменять билет.
— Какой поезд, Данглар?
— Который идет по этому чертову туннелю, комиссар. Прямо скажем, это не доставляет мне удовольствия. Но я увидел то, что хотел увидеть. Возможно, он отрубил ноги не моему дяде, однако прямая связь тут усматривается.
— Данглар, вы где? — медленно проговорил Адамберг, усевшись на садовый стол и отключив громкую связь.
— Черт возьми, я же вам сказал. В Лондоне. И теперь они точно знают, что почти все туфли — французские, часть — хорошего качества, часть — плохого. То есть их обладатели принадлежали к различным социальным слоям. Наверняка это дело перекинут нам, Рэдсток заранее потирает руки.
— Да что это на вас нашло? Какого черта вы вернулись в Лондон? — почти выкрикнул Адамберг. — Что вам за дело до этих туфель? Оставьте их на Хаджгете, оставьте их Стоку!
— Рэдстоку. Комиссар, я предупредил вас о моем отъезде, и вы не возражали. Это было необходимо.
— Глупости, Данглар! Вы переплыли пролив ради той женщины, Абстракт.
— Ничего подобного.
— Только не говорите, что вы с ней не виделись.
— Я и не говорю. Но это не имеет никакого отношения к туфлям.
— Хотелось бы надеяться.
— Если бы вы подумали, что кто-то отрезал ноги у вашего дяди, вы бы тоже съездили посмотреть.
Адамберг взглянул на небо, которое затягивалось облаками, проследил за летевшей по нему уткой и заговорил более спокойным тоном:
— Какой дядя? Я не знал, что все это имеет отношение к чьему-то дяде.
— Не к живому, а к умершему. Я не рассказываю вам страшилку о человеке, который разгуливает по свету без ступней. Мой дядя умер двадцать лет назад. Это был второй муж моей тети, и я обожал его.
— Не обижайтесь, майор, но никто не может узнать ноги своего покойного дяди.
— Вообще-то я узнал не ноги, а туфли. Но наш друг Клайд-Фокс был совершенно прав.
— Клайд-Фокс?
— Эксцентричный лорд. Помните?
— Да, — вздохнул Адамберг.
— Кстати, вчера вечером я с ним виделся. Он очень расстроен: потерял своего нового друга, кубинца. Мы с ним немножко выпили, он прекрасно знает историю Индии. По его справедливому замечанию, что можно всунуть в туфли? Ноги. И как правило, собственные. Стало быть, если туфли принадлежат моему дяде, то имеется большая вероятность, что ноги внутри также принадлежат ему.
— Это как лошадиный навоз, — прокомментировал Адамберг. Он вдруг почувствовал, как на него навалилась усталость.
— Какова емкость, таково и содержимое. Но я не уверен, что речь идет о моем дяде. Это может быть его кузен или просто односельчанин. Впрочем, все они там приходятся друг другу кузенами.
— Ну хорошо, — сказал Адамберг, плавно съезжая со стола. — Предположим, какой-то парень собирал коллекцию французских ног и, по несчастью, встретил на своем пути вашего дядю или его кузена. Но нам-то что до этого?
— Вы же сказали: нам не возбраняется проявлять к этому интерес, — сказал Данглар. — Это вы без конца говорили о хайгетских ногах.
— Там — возможно. Но здесь, в Гарше, мне не до этого. И очень досадно, Данглар, что вы отправились туда. Если ноги французские, Ярд обратится за помощью к нашей полиции. Это дело могли бы поручить другим, но теперь, по вашей милости, его повесят на нас. А вы нужны мне здесь, в Гарше. Эта мясорубка пострашнее, чем некрофил, который двадцать лет назад отреза́л ноги кому попало.
— Нет, не «кому попало». Думаю, он делал это с разбором.
— Так говорит Сток?
— Так говорю я. Дело в том, что, когда дядя умер, он находился в Сербии, а значит, и ноги его были там же.
— И вы пытаетесь понять, зачем этому парню отправляться за ногами в Сербию, если во Франции их шестьдесят миллионов?
— Сто двадцать миллионов. Шестьдесят миллионов человек — это сто двадцать миллионов ног. Вы совершаете ту же ошибку, что Эсталер, только в обратном смысле.
— Но почему ваш дядя находился в Сербии?
— Потому что он был сербом, комиссар. Его звали Славко Миркович.
К Адамбергу подбежал Жюстен:
— Там какой-то тип требует от нас объяснений. Мы убрали заграждения, он ничего не хочет слушать и требует, чтобы его пустили в дом.
Лейтенанты Ноэль и Вуазне, стоя лицом друг к другу и вытянув руки, загораживали входную дверь. А человек, ради которого они соорудили этот двойной барьер, выглядел вполне безобидным.
— Откуда видно, что вы полицейские? — в сотый раз повторял он. — Откуда видно, что вы не воры и не бандиты? Особенно вы, — добавил он, показывая на Ноэля, у которого голова была острижена почти наголо. — Я условился о встрече с хозяином этого дома, он ждет меня в половине шестого, и я не хочу опаздывать.
— Хозяин не принимает, — произнес Ноэль, ухмыляясь еще противнее, чем обычно.
— Не верю. Покажите ваши документы.
— Мы же вам объяснили, — сказал Вуазне. — Документы у нас в пиджаках, пиджаки в доме, а мы не можем отойти от двери, потому что иначе вы войдете, а вход воспрещен.
— Конечно войду.
— Значит, получается замкнутый круг.
Либо он идиот, либо, при своем небольшом росте и тучной фигуре, очень смелый человек, подумал Адамберг, глядя на незнакомца. Ведь если он подозревал, что имеет дело с грабителями, ему следовало бы прекратить эти споры и побыстрее убраться отсюда. Однако в нем было какое-то особое, профессиональное чувство собственного достоинства, привычная уверенность в себе; его упрямое, даже несколько надменное лицо словно говорило: он намерен выполнить свою работу вопреки всему, но только при условии, что его одежда не пострадает. Кто же он? Страховой агент? Торговец произведениями искусства? Юрист? Банкир? За его решимостью прорваться через заслон крылось еще и чувство классового превосходства. Он не из тех, кто даст себя прогнать, тем более таким плебеям, как Ноэль и Вуазне. Торговаться с ними для него было недопустимо, и возможно, именно эта гордыня представителя высшей касты заменяла ему храбрость, когда он так безрассудно рисковал. Он не боялся тех, кто стоял ниже его на социальной лестнице. Однако в спокойные минуты его умное, ироничное, старомодное лицо должно было быть очень приятным. Адамберг подошел к лейтенантам с другой стороны, положил ладони на барьер из плебейских рук и поздоровался с незнакомцем.
— Если вы действительно из полиции, я не уйду отсюда, пока не поговорю с вашим начальником.
— Начальник — это я. Комиссар Адамберг.
Сколько раз и на скольких лицах Адамберг видел в эту минуту удивление и разочарование. А затем — готовность повиноваться власти, каким бы странным ни казался ее носитель.