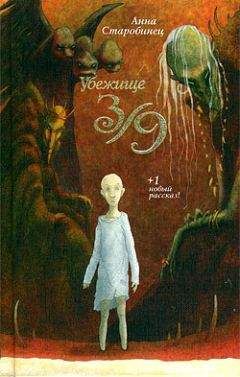Ознакомительная версия.
– Конечно, чувствую.
– И что же?
– Ну, я же его отец… есть же какие-то… чисто природные… инстинктивные вещи… чувства…
Я явно раздражаю его все больше. Он уже не улыбается. Он снова смотрит на часы.
И тогда – от обиды, от страха, что ли… или просто по глупости – я говорю ему:
– С чего ты, собственно, взял?
– В смысле?
– С чего ты взял, что ты его отец?
– Что? Маш – что… ты сказала?
Он плотно сжимает губы. Так плотно, что они белеют. И у него становится странное лицо. Какое-то неподвижное – как у деревянной куклы. Мне приходит в голову идиотская мысль, что он хорошо подошел бы на роль Щелкунчика в детском спектакле.
Я отвожу глаза. Жду еще какого-нибудь вопроса, жду криков, жду оскорблений – но он молчит. Тогда я снова смотрю на него и говорю в это неподвижное, в это застывшее, в деревянное это лицо:
– Может быть, не ты его отец.
– Да? А кто же?
Он вдруг… улыбается. Меня охватывает злость. И я отвечаю:
– Ты его не знаешь. Я сама его видела один-единственный раз в жизни. Познакомились на выставке фотографий… Потом зашли в кафе пообедать. Выпили. Потом… Он очень много говорил. Он все время говорил – даже во время… этого. Это было как раз… Короче, не исключено, что…
Я наконец замолкаю.
Теперь он смотрит совсем странно. На секунду мне кажется, что он сейчас меня ударит. Или встанет и молча уйдет, хлопнув дверью. Но он не шевелится. Он вообще не шевелится – только слегка щурит свои свинцово-серые безразличные глаза, точно пытается разглядеть какой-то маленький нечеткий предмет вдалеке.
Просыпается ребенок, пищит жалобно и грустно. Я беру его на руки.
Иосиф опасливо косится на нас, говорит:
– Ты не возражаешь, если я выйду покурю на лестнице?
И выходит, не дожидаясь ответа.
Потом – когда он возвращается – я говорю, что пошутила, соврала, выдумала. Прошу прощения. Плачу. Хожу за ним по квартире, как собачка.
Он говорит:
– Ничего, я так и понял.
– Как?
– Что ты пошутила. Придумала… Ладно, мне надо идти.
Он выходит в магазин, возвращается с продуктами, снова уходит.
Он возвращается под утро.
Кто-то скребется в дверь купе. Осторожно приоткрывает ее.
В тусклом свете, сочащемся из вагонного коридора, вырисовывается силуэт – невысокий, сутулый человечек в темной куртке, с накинутым капюшоном. В руках у него небольшой маломощный фонарик. Ну, вот и он, обещанный польский воришка.
Он тихо притворяет за собой дверь. Светит фонариком по сторонам. Наконец выхватывает из темноты мое лицо – с открытыми глазами.
Молчим. Он меня видит, а я его – нет. Я говорю в темноту:
– Бери, что хочешь, мне наплевать.
Он хихикает, и это гнусавое хихиканье я узнаю.
Он говорит:
– Пардон, я просто ошибся купе. Все, что нам было нужно, мы у тебя давно уже взяли, Маша. Маша-растеряша…
Он выключает фонарик и выходит.
…Они взяли? Если бы! Я сама.
Я сама отдала.
Кое-что еще осталось на моей свалке. Одно. Самое главное. Самое грязное. Но сейчас я совершенно не могу об этом думать. Возможно, стоит все-таки что-нибудь съесть. Это придаст мне сил.
Шатаясь, я иду по вагону – и только тогда понимаю, как мне плохо. Приходится держаться за поручни – иначе я упаду. Мои ноги подгибаются, гадко трясутся, приклеиваются к полу, становятся все тяжелее и мягче. Еще немного – и они растекутся густым горячим желе по ковровой дорожке, которой выстлан вагон, утянут меня за собой, вниз, и я впитаюсь в жесткий коричневый ворс…
Я иду. У меня ноют мышцы, кости, суставы. У меня болит даже кожа, даже поверхность глазных яблок… С усилием втягиваю в себя слишком плотный, слишком тягучий, спрессованный воздух. Выдыхать его обратно еще сложнее. Он застревает где-то на полпути, цепляется за меня, царапает легкие. Напрягаясь всем телом, я все-таки выдавливаю его из себя – маленькими порциями, со свистом.
У меня кружится голова. Пульс стучит в ушах. Этот стук сливается со стуком колес, этот стук такой резкий и громкий… Он рвет мои барабанные перепонки изнутри и снаружи, он оглушает меня, разрушает меня…
Я добираюсь до купе проводницы и показываю пальцем на упаковку «Юбилейного».
Она протягивает мне печенье. Смотрит с подозрением.
– Пьяный, что ли? – спрашивает. – Чего шатаешься-то? Плохо тебе? Чайку, может?
Отрицательно мотаю головой и уползаю обратно к себе.
– Немец – а туда же, – слышу за спиной ее ворчливое бормотание.
Ну да, туда же… Туда же, где немец…
Ем свой последний в жизни ужин: откусываю кусочек печенья – оно кажется мне кисло-горьким, – давясь, проглатываю, запиваю остатками холодного чая.
Бесполезно. Нет сил, нет.
Кажется, я умру прямо сейчас.
Я ныряю в пустоту, холод и тьму. Погружаюсь в ничто.
Здесь невнятный треск, шипение и прерывистый стук – это пульсирует, устало всхлипывая, это все еще плещется во мне горячая красная жидкость, удерживая, не отпуская меня. Это все еще бессмысленно борется со смертью моя кровь, упрямо не желает остановиться, застыть, остыть.
Сквозь свой шум я вдруг слышу что-то еще… как будто случайно ловлю неизвестную радиоволну среди трескучих помех.
– Тебя тоже здесь бросили? – тоненьким голосом спрашивает девочка.
– Бросили… – грустно отзывается другой детский голос. Мальчишеский.
Я его знаю.
– Мне не нравится этот мир, – говорит девочка.
– Мне тоже, – говорит мальчик.
– Если бы кто-то мог сделать так, чтобы он исчез, я была бы совсем не против.
– Я могу.
– Ты можешь сделать так, чтобы исчез мир?
– Если ты хочешь…
XIII. Путешествие
…и скрежет зубовный… скрежет… Умерла?
Ан нет, пока нет… Серое, промозглое утро. Я все еще жива. Подвывая, поезд медленно тащится через мокрый бурый пустырь, заляпанный пятнами ржавого снега. Потом с визгливым стоном останавливается – словно гигантский раненый ящер, уставший волочить по железякам и деревяшкам свое длинное тяжелое брюхо.
В мутное от дождевых разводов окно я вижу останки других ящеров – десятки, сотни колес от разных поездов свалены на пустыре. Четыре бездомные собаки – совершенно одинаковые, грязно-белые с рыжими пятнами – лениво и бесцельно бродят среди этих колес, обнюхивают их, вяло помахивая нелепыми загогулинами-хвостами.
– Это уже Брест? – доносится чей-то голос из коридора.
– Брест, Брест… Здесь мы долго будем стоять, – отвечает кто-то.
– А скока?
– Да часа три, не меньше.
– Почему?
– Колеса будем менять…
– Блин… А вечером еще российская граница?
– Ну, граница-то да – станция Осиновка… Но там таможни не будет. У нас же с Белоруссией общее типа пространство…
Потом опять какой-то поляк, опять «пашпорту прошу», опять даю бордовую корочку, голубую бумажку, ему же это абсолютно не интересно, ему все равно, он почти не смотрит ни на меня, ни в мои документы, выходит из купе, шипит себе что-то под нос – надо думать, по-польски, но мне чудится:
– Скатертью дорожка!
И еще:
– Ад есть.
Мне это только чудится. Из-за высокой температуры.
Потом приходит белорус – и ему не все равно.
Надпись на моей голубой бумажке он не понимает. Мне приходится написать по-русски:
– Я глухонемой.
Я ему явно не нравлюсь. Мое молчание выводит его из себя. Он вытряхивает все мои – то есть Томасовы – вещи из оранжевого рюкзачка, перебирает худыми костлявыми пальцами, недовольно ощупывает швы одежды.
– Огнестрельное оружие? Колюще-режущие предметы? Наркотики? Взрывчатые вещества?
Ну да, сейчас я выложу на стол пару стволов, большой пакет героина и перочинный ножик в придачу, придурок.
Молча смотрю на него, безо всякого выражения. Мне почти смешно.
– Сигареты – больше одного блока? Есть? – хищно косится по сторонам.
А то… У меня тут целый склад. Ну, давай, давай, ищи сигареты, больше одного блока.
Молчу.
– Незадекларированные товары, подлежащие декларации?
Без комментариев.
– Что-то здесь не так… Что-то нечисто… – сам с собой рассуждает белорус. – Куда, собственно, направляемся?
Молчу.
«Куда едете?» – пишет он аршинными буквами на моем голубом листочке.
«На кладбище», – пишу в ответ буквами помельче и впервые за пару дней улыбаюсь.
В прошлый раз, помнится, моя улыбка предназначалась Томасу…
– Не понял, – мрачно сообщает белорус.
«Посетить могилы родственников в России», – дописываю я.
– Встаньте, пожалуйста.
Сижу, молчу.
– Встаньте.
Сижу.
Он жестами показывает, что нужно встать.
Пошатнувшись, встаю.
Он принимается ощупывать меня – с головы до ног. Недовольно мычу.
– Терпи-терпи! Это еще цветочки, – говорит он. – У смородины они с тобой еще не то будут делать… Там, блин, такая граница… такая таможня… мало не покажется!
У смородины?.. Граница?.. Цветочки?.. Интересно, кто из нас бредит: он или все-таки я? Скорее, я… Это ведь я умираю.
– Ну, скатертью дорожка, – говорит белорус и выходит из купе.
Жалостливо подвывая, железный ящер втискивается в какой-то крытый застекленный амбар и резко останавливается, истерично взвизгнув. Дальше ехать некуда: это тупик, ловушка. С разных сторон к нему осторожно приближаются люди в оранжевом, окружают его. У них в руках гигантские копья-отвертки, отбойные молотки и гаечные ключи. Что-то грохочет под потолком – оттуда высовываются большие железные крюки, покачиваясь, ползут вниз, царапают ящеру спину. Он терпит, подрагивая. Затравленно дышит в лица окруживших его людей горелой резиной.
Они подходят к нему вплотную и умело разрубают надвое. Хвост – три или четыре последних вагона – быстро увозят куда-то по рельсам. А тело осторожно приподнимают домкратом.
Ознакомительная версия.