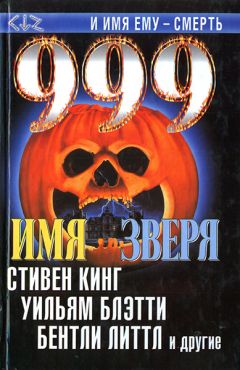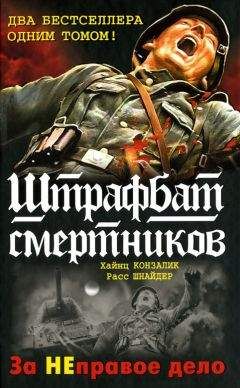Патнэм подождал в надежде услышать еще. Но нет — старик уже отворачивается, наклоняется, озирает стопки книг на полу. Патнэм не шевелится. Смотрит на руки мистера Карра, что поднимают пыльный, в кожу переплетенный фолиант. А руки дрожат, и книга вот-вот упадет. С чего бы это мистер Карр так задергался? Хотел спросить, а потом поглядел на блестящую лысину на макушке старикана в венчике тонких седых волос — и почему-то передумал.
Опустился на колени, начал помогать.
По воскресеньям Патнэм один работает. Мистер Карр по воскресеньям книги скупает, рыщет по развалам, по гаражным распродажам, по дешевым аукционам, а магазин на попечении Патнэма оставляет. Магазин, как все маленькие лавчонки в центре старого города. По выходным в шесть закрывается, Патнэм дома бывает как раз к «Двадцатке самых-самых».
Но на сегодня у него другие планы.
Запер двери в пять минут седьмого. Проследил, как запоздалый студент волочет к машине кипу секондхэндовых учебников, перевернул знак, потушил свет в витрине и пошел на склад. Постоял немножко перед дверью, размышляя, чем же она отличается от двери в туалет, может, негативные вибрации уловятся? Фиги. Нормальное такое ощущение ребячьего тайного восторга. Какое всегда бывает, когда делаешь что-нибудь запретное.
Патнэм стал пробовать ключи дальше.
На четвертой попытке дверь отперлась как миленькая, и вот уже Патнэм медленно поворачивает ручку, толкает от себя. А за дверью — и вправду лестница, много-много хлипких деревянных ступенек, покрытых серой пылью. А высокие стены — тоже деревянные. А на большущей балке в центре потолка — две голые лампочки, древние как незнамо что. Он всмотрелся в сумрак впереди, выше по лестнице — наверно, где-то там черный ход в театр, наверно, этой лестницей осветители и рабочие сцены пользовались. Пошел наверх. Перил у лестницы нет — кажется, вот-вот равновесие потеряешь, но это проходит, если за стены держаться. Один шаг — две ступеньки.
Дошел. Остановился. Впереди тянется вдаль какой-то коридор, длинный, через все здание, похоже, заканчивается где-то над бутиком, или над ювелирной лавчонкой, или за ней, над сувенирным магазином. В коридоре — темень, хоть глаз выколи, только и свету малость пробивается, который снизу, из книжного, а на том конце — черно. В темноте — участки темноты еще большей, у него такое чувство, что там — выходы из коридора в другие комнаты. Но наверняка не скажешь, больно темно; он помчался вниз по лестнице, отыскал под прилавком фонарик и — бегом назад.
Наверху он включил фонарик и посветил в коридор. Правда, проемы дверные, а дверей нет, и он сунулся в ближайший. Желтая полоска света заплясала на голых стенах, на пыльной батарее, на заложенном кирпичами окне. В дальнем конце комнаты, в левой стене — еще один проход, его шаги по паркету гулко отдаются в тишине. Направил свет в черный проем. Увидел низкую ванну, одинокий умывальник, старинный унитаз. Мгновение оглядывал ванную, ощущая странную неловкость, потом торопливо обернулся и через первую комнату вышел в коридор.
Следующий проход. И еще один. И еще.
И вот это — театр? Больше на отель смахивает. Куда из коридора ни зайдешь — везде сплошные спальни и ванные, спланированные один к одному, каждая следующая — копия предыдущей. Он продолжал исследование, чем дальше по коридору — тем тревожней на душе. Несколько комнат оказались совершенно пусты, во всех остальных сохранилась мебель: кровати с высокими спинками, керосиновые лампы на ночных столиках, темные деревянные бюро, жесткие стулья. В каждой комнате — батарея и замурованное окно, когда-то, должно быть, выходившее на улицу.
Он заглянул наконец в последнюю комнату.
Увидел мертвеца, сидящего в покрытом пропыленным чехлом кресле.
Подскочил. Уронил фонарик. Чуть не закричал.
Уже собирался удирать — и вдруг в свете упавшего фонарика различил, что фигура — вовсе не человек. Оно не мертвое, оно живым-то никогда не было. Просто брюки и рубашка, увенчанные старой болванкой для париков.
Он наклонился, поднял фонарик, высветил сначала фигуру, потом прошелся лучом по комнате. Не спальня. Уже. Длиннее. Пол явно скошен вверх. Замурованное окно скрыто за плотным красным занавесом. Ни кроватей, ни тумбочек, только четыре кресла, одно, болванкой увенчанное, — лицом к двери, остальные — к стене?
Нет, не к стене.
К СЦЕНЕ.
Патнэм шагнул в комнату.
Вот, значит, что от театра осталось.
Страшно ему почему-то. Думал, увидит нечто величественное, громадное, оркестровую яму, балкон, зрительный зал — гигантский, с витыми колоннами, с креслами, бархатом обитыми. Уж никак не эту унылую узкую комнату, одинокого зрителя-болванку, жалкую, простенькую, доморощенную сцену. Все — странное, высвечиваемое неверным лучом.
ТЫ ТУДА СЛУЧАЙНО НЕ ЗАХОДИЛ?
Он направляет фонарик вверх, на сцену. А на возвышении — целый стол маленьких фигурок, с кукол размером, жуткие, уродливые твари, упакованные в тканевые и меховые прикиды. Он подходит ближе. Луч фокусируется на ближайшей фигурке. Грязная. Гнусная. Противоестественная. Голова — больше тела, и сделана вроде как из выдолбленной тыквы. А может, из батата? Или все-таки из тыквы, что-то типа этого. Глаза — глубоко посаженные камушки. Деревянный нос торчит. А зубы — настоящие, человеческие зубы, блестят в искривленной усмешкой дыре рта.
По спине мороз идет, но фонарик движется, от одной фигурки — к другой, у каждой — свое выражение, свой костюм, но все одинаково жутковатые, и все, похоже, из одних и тех же материалов. Все расставлены и рассажены так, будто застыли посреди представления.
Патнэм и подумать не успевает, а уже делает шаг к сцене. Холодно, откуда-то резким сквозняком веет, но странный перепад температуры как-то скользит по краю восприятия, у него внутри уж и так все похолодело. Он тянется пальцем к ближайшей фигурке и осторожно дотрагивается. Такая теплая. И мягкая.
Он отскочил. Даже затошнило от отвращения. Буквально отпрыгнул — лишь бы скорей от сцены подальше. Палец, которым до куклы дотронулся, чуть скользкий, и Патнэм вытягивает его перед собой, точно боится испачкаться.
Назад, к двери, осторожно, только ни к чему не прикасаться. Поганые куклы, поганый театр! Возненавидел он их страстно, странной, иррациональной ненавистью, такой даже не ожидаешь, такую и по полочкам раскладывать неохота. Одного хочется — убраться от этого места подальше. Обратно в магазин. Не надо было ему сюда подниматься. Что-то здесь… неправильное, сначала от этого страх пробрал, а теперь — необъяснимое омерзение.
Он почти бегом выбежал в коридор, а к тому времени как добрался до конца, до лестницы, уже во всю мочь несся. Снова — по две ступеньки за раз, и вниз, и захлопнуть за собой дверь, и повернуть ключ — дрожащими руками. Неплохо бы палец помыть, да уж больно не хочется в магазине находиться, нет, только не в одиночестве, только не с этой комнатой наверху, и вместо того чтоб в туалет зайти, он торопливо выключает оставшийся свет, запирает дверь и уматывает.
Постоял немножко на улице возле магазина, пот льется, дыхание тяжелое. Оглядывал длинное здание. Никогда не замечал, что все лавчонки расположены в одном доме, фасады у них — совершенно разные, и уж точно бы не заметил, что есть здесь еще и второй этаж. Но теперь-то, когда он знает, очень хорошо заметны заштукатуренные кирпичные прямоугольники, замурованные окна наверху. Попытался было посчитать окна от книжного магазина и дальше, интересно, а за какими кирпичами спрятан театр, попытался — и бросил. Нет, не стоит узнавать.
Дрожа, поплелся за угол, за углом — парковка, там он машину свою оставляет.
Пять минут спустя он был уже дома. Первым делом — в ванную, палец мыть. Отскребал кожу сначала «Давом», потом — мало показалось — «Аяксом», а ощущение скользкости так до конца и не прошло. Он полез в аптечку, вынул коробочку лейкопластырей, в несколько слоев замотал палец и почувствовал себя малость получше.
— Патнэм! — Голос матери из кухни. — Это ты? Ты вернулся?.
— Да! — вопит он в ответ. — Я дома! — Надо же, как странно, кричит — а голос тихим кажется.
— Скоро обедать будем!
Он идет в холл.
— Обедать… а что у нас?
Голова матери высовывается из кухонной двери.
— Цыпленок с жареной тыквой.
С ТЫКВОЙ.
Он мигает. В голове картинка: мать оглаживает тыкву, надевает на нее парик, прорезает глаза, рот, вставляет нос. Мать смотрит в холл, прямо на него. Сердце в груди падает. Почему она так на него смотрит? Что у нее за улыбочка, словно бы подозрительная?
Он отводит глаза. Бред какой-то. Сумасшествие. И все равно — мать возвращается в кухню, а он не может идти следом, страшно, страшно, что увидишь на столе у плиты. Одну из тех кукол?
Он глубоко вздыхает. Только бы руки перестали дрожать. Что ж он такое, этот театр? Что за куклы такие, отчего они его так напрягают? Почему та, другая фигура, та болванка не произвела на него впечатления, а вот куклы?.. Наоборот, теперь, когда вспоминаешь то сидящее нечто, думаешь про шмотки на стуле, про болванку для париков, взирающую на дверь, чувствуешь нелепое успокоение.