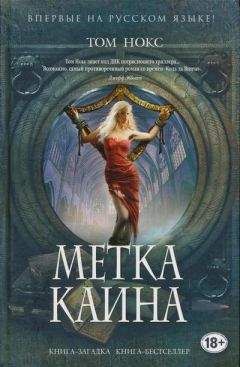Дэвид энергично кивнул.
— Мы видели. Старые дома и развалины в Кампани.
— Да. Такие гетто называли каготериями. В Кампани — один из самых больших каготериев.
— А что еще? — спросила Эми. — Двери, да?
Элоиза возразила:
— Сначала вы должны ознакомиться с историей, это важно. Жизнь каготов всегда была отмечена обособленностью: нас отделяли от всех, как будто прятали, словно некий постыдный секрет. Каготам запрещалось заниматься большинством ремесел. Нам предоставлялось возить воду и рубить деревья. Мы делали бочки для вина и гробы для умерших. И еще мы стали очень хорошими плотниками, — по лицу Элоизы скользнула слабая улыбка. — И именно мы построили многие церкви в Пиренеях — те самые церкви, из которых нас время от времени изгоняли.
— И снова — как в Кампани?
— Кампань… да. И многие другие поселения, — теперь Элоиза говорила немного быстрее. — Некоторые из запретов, касавшихся каготов, были странными, уж такими странными… Нам нельзя было ходить босиком, как ходили обычные крестьяне, и из-за этого родилась легенда, будто у всех нас перепончатые пальцы. Каготы не могли пользоваться теми же банями, что прочие люди. Нам не разрешалось прикасаться к стенам или мостам. Безумие, правда? А когда мы выходили из дома, мы должны были прикреплять к одежде гусиную лапку, la patte d'oie. Эдакий символ перепончатых ног. Мифическое уродство.
— Это похоже на то, как евреям приказывали пришивать к одежде желтую звезду. Во время войны, — сказала Эми.
— D'accord.[37] И одним из многих способов показать каготам, что они не такие, как все, было обращение с ними в церквях. Для нас существовали особые двери, слева от главного входа. Маленькие двери, очень низкие, вы видели? И еще для нас ставили отдельные купели — benitiers. Помеченные гусиной лапкой! А причастие нам подавали на очень длинных деревянных ложках, чтобы священник не мог даже прикоснуться к нам. Не прикоснуться к грязным людям.
— Но почему? — спросил Дэвид.
Чай в его чашке кончился. Ему хотелось еще, он проголодался; чтобы отвлечься, ему хотелось хоть что-нибудь съесть. Переживания этой девушки пробудили и вытащили на поверхность его собственную скрытую боль.
— Элоиза, но почему с каготами обращались подобным образом? Почему твой народ так унижали?
Девушка вскинула голову, на ее лице была совершенно детская презрительная гримаса.
— Да никто этого не знает! Никто понятия не имеет, почему с каготами обращались именно так! Крестьяне всегда говорили, что каготы — сумасшедшие. К нам относились, как вы знаете, как к низшим, как к грязным, оскверненным. Как к заразным.
— А каготов… убивали?
— Oui, oui.[38] Иногда фанатизм проявлялся очень жестоко. Очень жестоко. В начале восемнадцатого века одного богатого кагота в Ле Ланде поймали на том, что он взял святую воду из общей чаши… для некаготов… и ему отрубили руку и приколотили ее к церковным дверям.
Эми поморщилась; Элоиза продолжила рассказ:
— Ужасает, да? А другому каготу, который осмелился обрабатывать свою землю, что было строжайше запрещено, проткнули ноги раскаленным железным прутом. Если в деревне случалось какое-то преступление, в нем обвиняли кагота. Некоторых даже сожгли у столбов. Но даже после смерти преследование продолжалось — каготов всегда хоронили на отдельных кладбищах.
Дэвид посмотрел на Эми, та кивнула: Аризкун.
Эми спросила:
— Но откуда вообще взялся ваш народ? Как он произошел, кто вы такие?
— Происхождение неизвестно, поскольку сами каготы в основном просто исчезли… из разных документов. Говорят, во время Французской революции все законы против каготов были отменены… но вообще-то я думаю, что многие каготы сами постарались уничтожить архивы, украли и сожгли все документы, которые доказывали их происхождение. Просто чтобы избавиться, наконец, от этого позора! После 1789 года мы, каготы, постепенно… ассимилировались. Многие из нас сменили фамилии. Большинство просто вымерли. У каготов… у каготов не все ладно с деторождением.
Дэвид пристально смотрел на девушку. Он думал о своем деде: тот ведь сменил фамилию с басконской на испанскую…
Эми продолжала задавать вопросы:
— Но есть хоть какие-нибудь теории? О происхождении каготов?
— Naturellement.[39] Но разные современные исследования только все запутывают. Они даже не могут прийти к общему мнению о том, как мы, предположительно, выглядели и выглядим! Кто-то описывает каготов как малорослых, смуглых и даже толстых людей. К тому же страдающих базедовой болезнью и кретинизмом. Другие утверждают, что мы светловолосы и, знаете ли, с ярко-голубыми глазами. Один человек, ученый по имени Мишель, написал об этом целую книгу — «L'Histoire des Races Maudites».
Эми перевела для Дэвида:
— «История… проклятых рас»?
— Да-да. В 1847 году. Это одно из самых первых исследований. Мишель отыскал по меньшей мере десять тысяч каготов, до сих пор рассеянных по Гаскони и Наварре, до сих пор страдающих, до сих пор отверженных… — Элоиза встала и отнесла свою чашку к кухонной раковине. И очень небрежно вымыв ее, продолжила говорить: — После Мишеля еще кое-кто из историков пытался разрешить великую тайну каготов, несмотря на то что французы вообще не желали о нас вспоминать. Одна из теорий утверждает, что мы были прокаженными… это могло бы объяснить правила запретов, применяемых к каготам, то, что они не должны были прикасаться к некаготам и так далее; другая теория заявляла, что мы страдаем некоей заразной психической болезнью. Однако и это никуда не годится, потому что в других книгах мы описаны как здоровые и сильные люди. И умные. Как, я надеюсь, вы и сами уже видите. У нас нет проказы! Мы смуглые. Но у нас нет проказы и мы не сумасшедшие.
Дэвид кивнул:
— Это точно.
Элоиза опять заговорила:
— Я думаю, что мы можем быть потомками солдат-мавров, оставшихся в Испании и Франции после вторжения мусульман в восьмом веке. Может быть, именно поэтому кое-кто называет нас сарацинами. Я знаю, что все мои предки очень смуглые. — Девушка немного помолчала. — То есть были очень смуглыми. Но теперь ничего нельзя знать наверняка. Уже слишком поздно, разве не так? Никто здесь не хочет о нас говорить. Нас и осталось-то, может быть, всего несколько человек. Может быть, моя семья вообще была единственной чистокровной семьей каготов… которая могла проследить всю линию предков. Во всем мире.
— А само название? Каготы.
— Готские псы? Думаю, и название возникло не просто так. Мне кажется, что оно само по себе представляет оскорбление. Грязные люди. Отбросы. Теперь понимаете? Понимаете, почему мы, каготы, всегда старались скрыться, ассимилироваться…
Эми судорожно вздохнула.
— Последние из каготов. Просто потрясает…
— Да. — Элоиза на мгновение прикрыла глаза. — Но наплевать бы на историю, если бы из-за нее… если бы из-за нее не убили моих отца и мать.
Дэвиду хотелось задать вполне очевидный вопрос: зачем кому-то убивать каготов именно теперь? Но и вопрос, и скрытая за ним логика были слишком жестокими, чтобы озвучивать все это сейчас.
Терзания Дэвида нарушил какой-то шум. В дверях кухни стояла бабушка Элоизы, в вязаном жакете и клетчатых шлепанцах.
— Бабушка? — Элоиза явно обеспокоилась.
Старая женщина подняла хрупкую руку. Она пристально посмотрела на Дэвида и сказала:
— Я знаю, зачем вы здесь, месье Мартинес. Я знала вашего отца.
Дэвид вдруг понял, что ему трудно смотреть на мадам Бентайо. Но все-таки он спросил:
— Откуда вы могли его знать?
Старая женщина села к кухонному столу, обхватила ладонями пустую чашку.
— Я познакомилась с ним здесь, в Гюрсе. Пятнадцать лет назад.
— Вы хотите сказать, именно тогда, когда его убили… вместе с моей матерью? — Кровь Дэвида загудела в венах.
— Я могу вам сказать, где именно они оба погибли, если вам хочется это знать. Это в нескольких минутах ходьбы отсюда. Около лагеря.
В кухню вошла кошка; она осторожно подкралась к блюдцу и стала лакать скисшее молоко.
— Около лагеря?..
В ответе старой женщины прозвучала странная нежность:
— Я могу показать…
Они шли всего около десяти минут — через заросший травой заброшенный пригород, мимо уродливой церкви, мимо полупустого пивного бара, вдоль длинной прямой дороги. Наконец они добрались до старого, поросшего крапивой, ржавого железнодорожного полотна и осторожно перешли через него, как будто боялись появления поезда, — хотя этими рельсами явно не пользовались уже многие десятилетия. Все вокруг выглядело неестественно ровным. Дэвид не понимал, почему вся эта местность ощущается как мертвая. Как будто сюда никогда не приходили люди. В сумерках кружили какие-то черные насекомые.