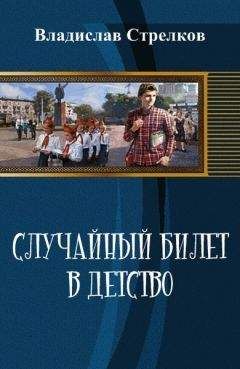Как назло, парня, забравшего её, он не очень-то и запомнил, видел лишь, что тот был худощав. Там, за дверью, встали с кровати, шаги грузные, дыханье тяжёлое. Полянский отошёл, дверь открылась, лысый мужик, в два метра ростом, уставился на него.
– Дверью ошибся, извините, – сказал Полянский.
Здоровяк оглядел его, хмыкнул носом и вернулся к себе.
Следующая дверь была не закрыта. Из темноты доносились звуки телевизионного шоу, Полянский чуть толкнул её, она отворилась – на кровати храпел какой-то старик, а рядом хрипел телевизор.
Полянский закрыл дверь за собой, обернулся и упёрся в волосатую грудь здорового бородача. Эти водители траков все на одно лицо.
– Тебе чего тут надо, малахольный? – спросил его незнакомый мужчина. От него пахло освежителем воздуха и дешёвым одеколоном.
– Я ищу, – замялся Полянский, – свою жену, – наконец сказал он.
– Нечего жениться на шлюхах! – заржал тот, и его смех разлетелся по всему этажу.
Полянский спустился на второй.
Здесь свет горел в трёх номерах из пяти. В двух ярко, в третьем – чуть приглушённо, мерцая, будто от ночника. Полянский медленно подходил к той двери.
Там, сидя на краю кровати, парень лет тридцати смотрел телевизор. Пока Михаэль пытался вспомнить, похож он был на того или нет, из ванной вышла дрожащая девушка с повязанным на груди полотенцем. Это была она!
– Здесь нет горячей воды, – донёсся её слабый голос.
– Как же вы мылись?
– Это не важно.
– Я могу спать на полу…
Она отошла, скрипнула дверцей шкафа и через пару секунд кинула на кровать второе одеяло. Потом скинула с себя полотенце и потянулась к вещам. Это был тот же свитер – чёрный, растянутый почти до колен. Так она в нём и легла.
Михаэль отошёл от двери и огляделся по сторонам. Никого нет в коридоре. Лишь с первого этажа всё так же гремел телевизор.
Он посмотрел на часы. Полтретьего ночи. В коридоре мертвецки тихо. Нужно было ещё подождать. Он войдёт, когда они оба заснут.
22
Фокусник
Дорога в Отаго была протяжённостью порядка двухсот километров, она пересекала широкие каналы, переходила в опорные мосты, соединяла несколько разъездов, въезжала в туннели, чтобы опять разветвиться на несколько таких же дорог.
Наш городок был островным, и поезда от него не отходили, чтобы добраться в Нью-Дем, нужно доехать до Отаго, а уж от него – куда душа позовёт.
Всю дорогу я смотрел, нет ли хвоста. Я не любил автобаны, на них нельзя было уйти от погони, нельзя остановиться и развернуться, даже сбросить чёртову скорость было смерти подобно – кто-то несущийся сзади обязательно догонит тебя. Аварии мне были ни к чему. Я взглянул на спящую незнакомку, я ведь даже не спросил, как её зовут, да в принципе разве оно важно, если наши пути разойдутся. Я был кем-то вроде таксиста, нам нужно было просто бежать. Кем она была? Может, воровкой? Или мошенницей? Нет, это вряд ли. У них совсем другой взгляд. Может, она бежала от мужа или от сутенёра, например. Да, на этом я и остановился – от сутенёра, вполне могла. Теперь понятно, почему её преследовал тот парень, таких так просто не отпускают.
Я смотрел на свою незнакомку и пытался забыть весь день, я пытался представить, что день начался с неё. Что я просто подошёл к дому, сел за руль, выехал на дорогу, и потом на меня налетела она. Да, так и было, сказал я себе, так и должно было быть. Почему я не сел в машину сразу? Почему я поднялся к себе? Ах да, мне нужны были деньги и ключи от этой машины.
Я не мог не войти.
Но мог бы не проходить дальше кухни, можно было собрать вещи в прихожей, забрать ключи, что всегда лежали в маленькой вазе, и сбежать из того кошмара. Если бы я не видел Лиан, я бы не знал, что её убили, я бы всё ещё думал, что она жива, я бы думал так и через месяц, и через пару лет, живя в Нью-Деме или где-то ещё. Я бы никогда не вернулся за ней.
Но теперь она была мертва, не потому, что её убили, а потому, что я об этом знал. И её смерть навсегда со мной. Наша память – худший судья, у её приговора нет срока.
Теперь она на всю жизнь со мной, моя дорогая Лиан. Теперь её кожа не бархатиста, она холодна и тверда, в её лице нет ни любви, ни упрёка, в нём только ужас и боль. Я её такой и запомню. Живой Лиан больше нет.
До Отаго оставалось около ста километров, когда машина испустила последнее ворчание и, выкашляв что-то из себя, встала на полдороге.
– Приехали, – сказал я.
Незнакомка посмотрела на меня сонным взглядом.
– Уже? – спросила она.
– Машина сломалась.
На трассе – ни души. Только вдали небольшое кирпичное здание с наполовину перегоревшими буквами в надписи «Мотель».
– Всё равно надо передохнуть, – сказал я, – не хватало ещё заснуть за рулём.
Я открыл дверь и вышел на свежий воздух – дорога пахла ночной прохладой и полынью, что росла у неё. До мотеля метров триста по узкой тропе. Девушка тихо плелась за мной.
Она не говорила много, да она вообще почти не говорила, и я не вытягивал ничего. Она была смертельно грустна, от неё пахло тем же, чем от Лиан – нежизнью. Да, чёрт возьми, эта девушка…
– Простите, как вас зовут? – наконец спросил я.
– Хосефа.
– Хосефа, – повторил я ещё раз. – Никогда раньше не слышал.
– Яхве воздаст, – сказала она.
– Что? – оглянулся я.
– Это значит Яхве воздаст.
– Понятно.
Эта Хосефа была будто мертва, безжизненная, словно больная, как мать, брюхатая мёртвым ребёнком, знающая, что впереди только тьма. Не скажу, что мне было легко, но то, что полегче, чем ей, это точно. И даже смерть бедной Лиан не легла на меня таким грузом. Может, она видела что-то похуже, чем смерть? Что может быть хуже смерти? Если только жизнь, от которой хочется сдохнуть. Я не хотел этого знать. Мне ни к чему разделять её ношу, хватало теперь и своей. Мотель окружали деревья, не слишком густые, но их всё же хватило, чтобы хоть как-то его заградить от несмолкающих звуков пролетавших по трассе машин.
– Если у вас нет денег, я сниму вам номер, – сказал я.
– У меня есть.
Хосефа сняла одну кроссовку и достала из-под стельки сложенную вдвое купюру.
– Всё равно сниму, – сказал я.
У мотеля стояло несколько фур и пара грузовиков службы доставки. Половина окон были темны, в нескольких ещё горел свет.
– Ничем не могу помочь, – сказал рыжий здоровяк у входа, – мест нет.
– Но мы застряли посреди дороги, здесь только пустошь и лес.
– Всё занято, – сказал он остервенелым хрипом.
– Может, что-то найдётся? – достал я три сотни. Видит бог, ночь здесь стоила в десять раз меньше.
Он посмотрел на деньги, потом на меня, на Хосефу – на ней его взгляд задержался чуть дольше, в нём даже мелькнула какая-то жалость.
– Хорошо, – прохрипел он, – если хотите, можете переночевать у меня. Я всё равно всю ночь здесь сижу.
– Нам бы две комнаты, – смотрел я на деньги.
Он нахмурил рыжие брови.
– Может, ещё ужин в постель?
– А ужина тоже нет?
– Это мотель, парень, – забрал он себе три сотни, – а не гостиница пять звёзд. Так вы берёте мою комнатушку или нет?
Комната пахла чипсами, мясными консервами и табачным дымом, из окон виднелся лес и угол парковки. Во мне опять поселился страх, не то чтобы он куда-то ушёл, но и не проявлялся так сильно. Это было профессиональное, генетическое, какое угодно, но не естественное для нормальных людей.
Циркач не имеет права бояться. Когда ты под куполом или в огне, когда ты несёшься на мотоцикле по стенам и потолкам, худший советчик – страх. Он приходит потом или же не приходит вовсе. Ты падаешь только тогда, когда боишься упасть – так говорил мой отец, так думал каждый артист цирка. Наш мозг управляет нами, и порой мы даже не знаем как.
Я опять вспомнил Лиан, мне показалось, я видел её лицо там, в этой ветвистой мгле дальнего леса, в этих спутанных в объятьях ветвях, что рисовали её черты. Мне нравилось, как она пахла, как касалась меня своей кожей, сейчас же она пахла кровью, а касалась мёртво-бледной рукой.