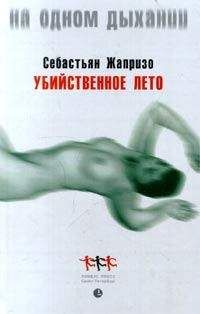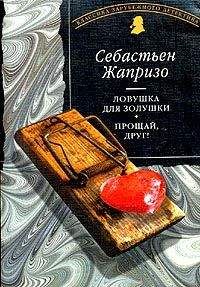Ознакомительная версия.
Открыв глаза, вижу, как она в своих туфлях подходит ко мне. И смотрит без злости, но и без любви. У нее смуглое лицо в морщинах. Глаза выцвели. И она произносит: «Идем. Тебе надо поспать». Мы поднимаемся наверх, и там, прежде чем войти к себе, я целую ее в щеку. Она пахнет, как и глухарка. И говорит: «Я положила тебе на постель старую накладную. Человек, который привез механическое пианино, был хорошим знакомым моего мужа. Его звали Лебаллек».
Я думаю о Погибели, которая сейчас возвращается домой через горы, и говорю устало: «А мне-то что до этого?». Она не обижается и отвечает: «Мне казалось, тебя это интересует. Я перерыла весь дом, прежде чем нашла эту накладную». Опустив голову, говорю: «Мне почудилось, что я однажды видела ваше пианино, когда была еще маленькой. А мне эти годы очень дороги». С минуту она молчит, а потом кивает: «Понятно. Это, пожалуй, единственная вещь, которая мне понятна в тебе».
Оставшись одна, беру накладную, надеваю очки и читаю. Передо мной потертая бумажка, суммы в старых франках, с фирменной печатной маркой «Фарральдо и Сын». Ее выписали 19 ноября 1955 года, внизу выведена с усердием подпись: «Монтечари Лелло». А рукой матери Фарральдо вписано имя водителя грузовика – Ж.Лебаллек. Внизу можно прочесть: «Оплачено наличными 21 ноября 1955 г.» – и роспись. Вынимаю из сумки визитную карточку Лебаллека, там записан адрес столяра для полок. За двадцать лет почерк нисколько не изменился. Но я сейчас больше думаю о Погибели, чем о нем. После долгих размышлений и колебаний за последние дни я приняла в Брюске окончательное решение.
Засыпая, я еще слышу запах мадемуазель Дье, смешанный с духами Диора. Страшная штука – запах. Мой папа… – стоп! Моя мама. Вот чей запах я люблю больше всего. Бу-Бу? Отметаю мысль, что он где-то на танцах. Вероятно, спит в глубине коридора. Я больше не сержусь на него. И еще передо мной мелькает дорога, освещенная фарами. Отче наш, иже еси на небеси, сделай так, чтобы она благополучно доехала до дома!
Просыпаюсь на заре вся в поту. Приснился страшный сон. Ставни я не закрыла, и холод залез в комнату. Слышно, как внизу Микки готовит себе кофе. Пинг-Понг не вернулся. Подхожу к шкафу проверить, на месте ли флакон, и вынимаю его, чтобы взглянуть еще раз. Мне приснилось, что отравлена была моя мама, причем в баре Диня на моих глазах. Я знаю, что она умрет, и громко кричу. Потом у нее рвут волосы, и все лицо ее залито кровью.
Там и мадемуазель Дье, и Пинг-Понг, и Туре. А вот Лебаллека нет. Все говорили, что он скоро придет, и смеялись, заставляя меня есть волосы моей матери.
Не помню, сколько я еще простояла так голая посреди комнаты, прислушиваясь, как внизу Микки пытается завести свой грузовик. Иду к окну. Не понимаю, почему он уезжает так рано в день 14 июля. Возможно, у него ночевала Жоржетта. Отсюда мне не видно, сидит ли она в кабине. Вижу только, как грузовик отъезжает. Тогда я набрасываю на себя халатик с надписью «Эна» и спускаюсь на кухню. Там никого нет. Готовя себе кофе, не могу отделаться от чувства, будто за моей спиной кто-то стоит. Выхожу с чашкой на улицу, сажусь на каменную скамейку около двери и прихлебываю в лучах красного солнца, встающего из-за гор.
После этого мне, как обычно, становится лучше. Я иду босиком через двор на поляну – трава там нежная, в росе. Не знаю, который уже час. В большой палатке туристов все тихо. Я не приближаюсь к ней, а сижу, болтая ногой в речке. Вода ледяная, быстро вытаскиваю ногу назад. Так и сижу на большом камне, стараясь ни о чем не думать. А когда я ни о чем не думаю, то думаю о всякой муре…
Спустя некоторое время появляется один из туристов – самый из них высокий, с полиэтиленовым мешком для воды. На нем заношенные трусы, он весь красный от солнца, как кирпич, с выгоревшими волосами на груди. «Здравствуйте, вы рано встаете», – произносит он. Я еще ни разу не разговаривала с ним. Его зовут Франсуа, я же показываю ему свое имя, вышитое на халате. Он замечает: «Это не имя». Я удивляюсь: «Разве?». Он интересуется, пила ли я кофе. «Идемте, – зовет он, – выпьете с нами еще». Я соглашаюсь и следую за ним.
Мы идем босые к их палатке, и там я узнаю, что все они из Кольмара, с Верхнего Рейна. Не знаю, где это, говорю «Вот как?» – словно прожила там всю жизнь. Он спрашивает, откуда у меня такой акцент, и я отвечаю: «Моя мат австрийка». Тогда он пытается говорить со мной по-немецки и я лишь повторяю: «ja, ja». Правда, я немного понимаю, но сказать могу только это. В конце концов он переходит на французский.
Его приятель и обе девицы уже проснулись. У парня легкие штаны, у одной из девушек обрезанные по колено джинсы, у другой – трусики с растопыренной рукой на заду. Голые по пояс, они без всякого стеснения занимаются своими делами. Обе очень спортивные, загорелые. Мне представляют Анри, и я жму ему руку. Он не такой красивый, как Франсуа, но недурен, только вот давно не брился. Девицу в обрезанных джинсах, с волосами цвета спелой пшеницы, зовут Диди, а другую, покрасивей, прекрасно сложенную, Милена. Они варят кофе, и мы пьем его, сидя на земле перед палаткой. Им тут очень покойно. Вокруг никого. Диди рассказывает, что у них не хватило денег, чтобы поехать в Сицилию, и они остались здесь. Оба парня работают в банке. Я говорю: «А почему вы не унесли с собой кассу?». Они улыбаются только для того, чтобы доставить мне удовольствие. Шутка моя не произвела никакого впечатления. Внутри палатки я вижу надувные матрасы. Никакой занавески. И спрашиваю: «А что вы делаете, когда трахнуться охота?». И этот вопрос не производит никакого впечатления. В конце концов до меня доходит, что они принимают меня за дуру набитую, и умолкаю.
Не проходит и четырех тысяч лет, как мне становится известна вся их вшивая жизнь. И тут раздаются чьи-то шаги и появляется – кто бы вы думали? – усталый тип, весь измазанный сажей, в грязной рубахе, в мятых брюках и стоптанных сапогах. У него такой же ошалелый вид, как у обожаемого нашим Микки гонщика, когда того о чем-то спрашивают по телеку. Приветствуя всех, он говорит: «Извините, у меня грязные руки». А мне бросает: «Ты вышла погулять?» Нельзя не догадаться, что он будет дуться на меня весь день только потому, что под халатом у меня ничего нет и все это заметили. Что другие девчонки выставляют свои сиськи, ему совершенно плевать, он даже не смотрит на них. Видит только меня. Встаю, благодарю за кофе и все такое, и мы через поляну направляемся к дому. Я говорю ему: «Послушай, Пинг-Понг, я тут оказалась совершенно случайно». Не оборачиваясь, он отвечает: «А я тебя ни в чем не упрекаю. Я устал, и все». Тороплюсь догнать его и беру за руку. Он говорит: «И не зови меня Пинг-Понгом».
На кухне все уже в сборе. Бу-Бу в пижаме поедает двенадцатую тысячу бутербродов и сообщает мне: «Заходил Брошар. Твоя школьная учительница просила передать, что доехала благополучно». У меня перехватывает горло, но я говорю: «Как ты умудряешься все это слопать?» Он дергает плечом и улыбается. Просто умереть можно от его улыбки. Чмокаю глухарку и иду к себе.
Пинг-Понг уже разделся и лежит на неубранной постели. Говорит: «Мне надо хоть немного поспать. Сегодня вечером мы пойдем на танцы одни». Я сажусь рядом с ним. Он даже не умылся, и от него пахнет дымом. Некоторое время он лежит с открытыми глазами, затем закрывает их и бормочет: «Вердье сломал себе ключицу. Это тот молодой парень, который был со мной в „Бинг-Банге“, когда я с тобой познакомился». Отвечаю: «Да, помню».
Я рада, что мадемуазель Дье позвонила. Когда боишься, что другие станут о тебе беспокоиться, это и есть настоящее отношение. Все, кроме матери, почему-то думают, что мне плевать, когда обо мне беспокоятся. Это неверно. Ей-Богу. Просто я не должна показывать свои чувства, вот и все. То, что она позвонила Брошару, куда большее доказательство, чем то, что она ждала меня в Дине, где я села в ее машину. Она долго ждала меня там, поставив машину напротив кафе «Провансаль». После целого потока упреков заявила: «Я была у твоих родителей в субботу. Мать показала мне подвенечное платье. Я привезла твоему отцу заявление о признании отцовства. Однако не смогла убедить его подписать. Но увидишь, он все равно это сделает».
А я-то в субботу носилась по городу, не зная, куда пойти, чтобы забыться. Позвонив Лебаллеку, беззвучно ревела точно так же, как Погибель умеет реветь вслух. А она поехала к нам, думала сделать мне приятное. Я, кстати, это понимаю. И вовсе не такая я бесчувственная, вот уж нет. Я не бесчувственная, не антиобщественная, не развращенная, как напечатала на машинке вонючая социологичка после поганых тестов в Ницце. Это же заключил и бывший с ней доктор, даже захотел меня изолировать. Но когда Погибель рассказала мне о своем добром поступке, мне пришло в голову не то, что она любит меня или что я должна прыгать до небес от радости, стараясь проломить крышу ее малолитражки. Меня сразило то, что она видела его, говорила с ним, заходила в его комнату. А я нет, я нет – вот что.
Ознакомительная версия.