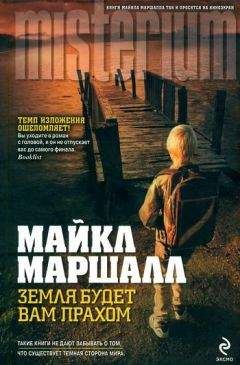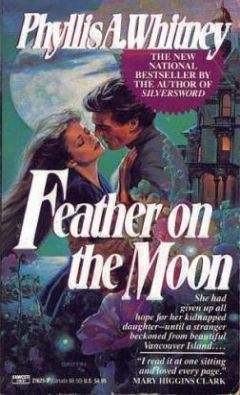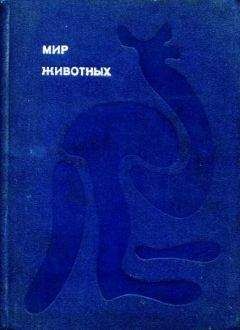Устроившись, я понял, во-первых, что один из членов семейства, сидящего в дальнем углу, рассматривает меня, а во-вторых, что это помощник шерифа Грин.
Он расположился за столиком с женщиной приблизительно его лет и бесспорно такого же веса; ее задница была втиснута в синие велюровые брюки и грозила обвалиться с обеих сторон стула. Напротив них сидел кое-кто тоже мне знакомый — Кортни, беспризорного вида девочка-подросток, убиравшая номера в мотеле.
Грин и его жена ели молча, методично запихивая в себя куски пиццы, словно участвовали в соревновании, победителем которого станет самый упорный участник. Девочка, судя по всему их дочь, либо уже доела, либо не хотела есть вовсе.
Я сидел себе и попивал кофе. То, что здесь называлось кофе, оказалось чудовищным пойлом: без пенки и без вкуса, настоящая дрянь. Просто большая чашка чего-то горячего и мокрого. Я сидел, обхватив ее обеими руками, чтобы согреться и чувствовать себя уютнее, смотрел на улицу, где ничего не происходило, и думал, взорвется ли в результате моя голова. Я не был голоден, даже представить себе не мог, что способен проголодаться, но пицца хорошо пахла. Наверное, она просто напоминала мне о времени — недели не прошло, — когда жизнь казалась гораздо проще.
В конечном счете Грин и его спутницы ушли, так и не произнеся ни слова. Когда они проходили по тротуару мимо окна, взгляд Кортни безучастно скользнул по мне, но понять, узнала ли она меня, было невозможно.
Потом у меня в кармане завибрировал телефон, но я не представлял себе ни одного человека, с которым мне хотелось бы поговорить. Я решил, что Беки передала Кайлу мое сообщение, а значит, невозможность дозвониться до меня подействует на него даже сильнее, чем мой голос.
Я не заметил, чтобы кто-либо входил в пиццерию, и услышал шуршание материи, лишь когда кто-то опустился напротив меня.
Я поднял глаза и увидел Кристину. Она сидела очень прямо, сложив руки на груди.
— Расскажите мне, — сказала она.
В какой-то момент Скотт догадался, что, если издавать связные звуки, это поощряется, и он охотно демонстрировал нам, что успешно выполняет программу. Кроме прямых волеизъявлений он иногда радовал нас монологами, в которых сообщал что-нибудь о том или ином предмете или ситуации, произносил «потому что», добавлял еще одно придаточное предложение, потом еще одно «потому что» и продолжал в таком духе, пока не выдавал сюрреалистическую сентенцию протяженностью минуты в две. Он еще не понимал значение «потому что», но сообразил, что им можно связывать другие слова, перекидывать мостики между ситуациями.
После смерти Скотта я пришел к убеждению, что его прозрение касалось не только языка. Он, конечно, со временем забыл бы об этом, как забываем все мы, но не успел.
Короче говоря, у меня был роман.
Началось все как-то случайно, а когда ситуация прояснилась, стало уже поздно. Я пытался сделать То, что подобает. То, что подобает, отправлялось со мной в долгие прогулки, но оказалось слишком уж покладистым. Я хотел, чтобы То, что подобает, было твердым, как гвоздь, настроенным на победу, как тренер олимпийской сборной, и готовым раздавать тумаки. Я хотел, чтобы То, что подобает, было Иисусом, чтобы оно выставило передо мной остерегающую руку, пресекло мои заблуждения и осветило золотым сиянием все, что прекрасно, справедливо и истинно.
А оно вело себя как старый собутыльник, который всякого повидал в жизни и не имел ни малейшего желания прибегать к жестким мерам.
— Ну да, — говорило оно. — Я тебя слышу. Я и есть то, что ты должен делать. Но ты ведь не хочешь?
А я напоминал ему об обязанностях, говорил: то, что у меня в голове, глупо, опасно и бессмысленно. Что Кэрол заслуживала лучшего. Что у меня есть семья. Что я сделался этаким хрестоматийным идиотом: женатым человеком, который завел роман. Что я должен разорвать эту связь, радоваться, что еще не успел разрушить главное в своей жизни, и думать о чем-нибудь другом, пока эта история не станет стародавней байкой, как первая высадка на Луну.
А оно снова пожимало плечами и говорило: «Конечно, я все понимаю. Ты прав. Но… мы толчем воду в ступе, разве нет? Ты никак не можешь забыть запаха ее кожи в том месте, где скула уходит вверх, к уху. Тут я совершенно бессилен. В том, что касается запаха, — тут ты как-нибудь сам».
В конечном счете я перестал приглашать на прогулки То, что подобает. От него было мало проку.
Тем временем я отдалился и отстранился от всего. Я с трудом заставлял себя сосредоточиться, от спазмов в животе потерял интерес к еде, стал раздражительнее, чем следовало.
Я знал, как сильно люблю жену, семью, как повезло мне в жизни. Вероятно, я не понимал это так, как потом, когда лишился всего, но все-таки знал прекрасно. Вы осознаете, что хорошо бы ограничить эмоции каким-то моментом во времени. Вы можете даже вообразить, как беседуете с противоположной стороной, как оба принимаете (с грустью, но с ясным осознанием единственно верного пути) такой план действий, что Бог начинает одобрительно кивать, берет вас в Свою большую теплую руку и перемещает назад, на более приемлемую часть нравственного ландшафта.
Но вы никогда не произнесете последнего слова в мысленном диалоге, потому что на самом деле вся эта игра воображения (если только у вас осталось достаточно здравого смысла, чтобы понять это) имеет одну цель: воссоздать ситуацию, в которой вы снова будете вместе.
Мы несколько раз делали То, что подобает.
Мы говорили — глядя друг другу в глаза, по почте или эсэмэсками, — что все кончено, и вели себя соответствующим образом. Но это тяжело. Прожив несколько лет рука об руку со своим спутником, ты вдруг снова оказываешься предоставлен самому себе. Любовное увлечение дает тебе чувство свободы. Ты выбираешь, когда и как встречаться, врать ли, и если да, то как, какую часть правды открыть, выкраиваешь из жизни короткие часы, в которые можешь получить вожделенное. Имея дело с кем-то новым, ты и сам обновляешься, тебя потрясают простейшие различия. Кэрол, например, редко пользовалась духами. Та, другая, пользовалась. Кэрол почти никогда не носила драгоценностей, тогда как другая женщина время от времени делала даже что-то своими руками (включая серебряный браслет, который подарила мне и который я в итоге где-то потерял).
Опьянеть от адреналина, а потом вернуться в прежнее состояние дремоты означает умереть раньше времени. Внезапно как будто выключают свет, и жизнь становится похожей на ржавый скелет заброшенного парка аттракционов. Здесь больше не раздается веселых криков, не слышно болтовни, воздух не наполнен запахом лосьона для загара и мороженого, нет неоновых огней и сахарной ваты, такой розовой, что режет глаз. Теперь там пусто и тихо. Вы пытаетесь найти выход, обнаружить парковку, где, насколько вам известно, осталась одна-единственная машина — ваша собственная. Вы продолжаете поиски, не поднимая головы, стараетесь не замечать головокружительного плетения конструкций аттракционов, от которых у вас всего два-три дня назад захватывало дух, а теперь они темны, мертвы и поскрипывают на ветру. Вы не хотите уходить, как не хотели, чтобы это место вообще закрывалось, пусть оно и приносило одни убытки и стало опасным. Вы хотите, чтобы оно оставалось живым и ярким, хотите забираться на эти горки и не желаете видеть, как ржавеет все вокруг. Когда вы наконец находите машину, одиноко стоящую под единственным фонарем на огромной пустой парковке, вы хотите уехать в ночь, оставив что-то, куда можно будет возвращаться в снах и грустных долгих дневных бдениях. Хотите слышать биение своего сердца, как тогда, когда оно смеялось и кричало на «русских горках» в летний день.
Вы хотите думать, что если бы прибежали сюда в нужное время, то могли бы найти этого человека — он стоял бы и ждал, улыбаясь той самой улыбкой и держа два билета, чтобы прокатиться еще разок — последний, только теперь катание длилось бы вечно.
Вы проживаете это, стараясь довольствоваться тем фактом, что прошлого уже не отнять. Но это слабое вознаграждение, оно устраивает лишь стареющую душу, более склонную к комфорту, чем к риску ради будущего, которое представляется слишком неопределенным, суровым или просто недолговечным. Такие соображения свойственны людям, прожившим достаточно, чтобы понимать: воспоминания, которые тебе дороги, со временем сотрутся, потускнеют, как сон после пробуждения, обретут сходство с пыльным альбомом старых фотографий и наконец превратятся в слова. В них не останется жизни, разве что краткое воспоминание о ком-то, кто смотрит на тебя с алчным ликованием, смотрит бездонным взглядом человека, который хоть на мгновение не хочет больше ничего, только быть рядом с тобой.
Вот почему, как бы решительно ни клался конец этой истории (и периоды, когда мы не встречались, длились неделями, даже месяцами), рано или поздно один из нас не мог больше противиться желанию добавить к завершенной пьесе маленькую коду. Потом следовала кода к этой коде. Наконец происходила еще одна встреча. Где-нибудь в общественном месте, где двое взрослых могут увидеться чисто по-дружески. Но после двух-трех рюмок мы смотрели друг другу в глаза и понимали, что в этот единственный вечер нам обоим все равно: пусть мир провалится в тартарары, но мы должны взять свое.