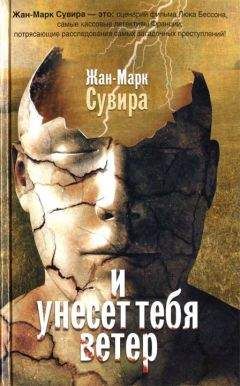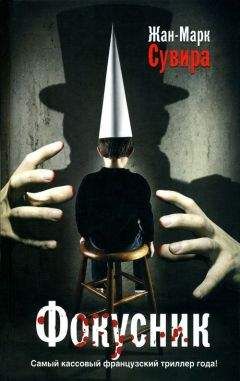— Я читал ваше личное дело. Вы оставили школу на второй ступени. Должны были знать про Сенеку.
— Должен, только я плохо учился. А то бы не стал садовником-электриком-слесарем.
Больше Бриалю нечего было сказать. Он находился в кабинете следователя, который мог отправить его в суд, а там могло «светить» пожизненное, но это его не волновало. Адвокат потирал нос и просматривал записи.
— Господин судебный следователь, какими вы располагаете доказательствами, кроме легко объяснимых следов ДНК?
Николя Тарнос в глубине души был согласен, что обвинению не хватает основательности.
— Мэтр, я вижу, что в Париже выявились новые факты по делу. Но прежде чем принять решение, я свяжусь с парижским следователем и разберусь, действительно ли эти серии преступлений полностью одинаковы, или там работал подражатель, что случается в не совсем ординарных уголовных делах. И приму решение не только на основании одного этого пункта.
— Господин судебный следователь, через несколько часов вы получите ходатайство об освобождении Жан-Пьера Бриаля из-под стражи.
Секретарь суда взглянула на настенные часы: они показывали 18.30. Адвокат продолжал настаивать на освобождении своего клиента, следователь с ним пререкался. В 19.00 она записала последнюю фразу адвоката, а через двадцать минут поспешила в свою машину, думая о Бриале. Она уже двадцать лет работала в суде и была уверена, что этот толстый виновен. Но последние доказательства разлетались на мелкие осколки.
Из тетрадей Жан-Пьера Бриаля «События и сновидения»
1985 год.
Двадцать лет. Сегодня мне исполнилось двадцать лет. Говорят, это самый прекрасный возраст в жизни. Я этот день точно запомню, хотя и не задувал свечек на торте. Вечером встретил мужика, которому изрезал верх на его долбаной понтовой тачке. Он меня не узнал. Еще бы! Он же сам мне всю рожу изрезал. Я прошел мимо не оборачиваясь. Через шагов сто повернул обратно и пошел за ним — так просто, от скуки. Он шел спокойно, прямо, ничего не боялся. Зашел сначала в продуктовую лавку, накупил там дорогой вкусной жратвы, вина, шампанского, потом к цветочнику — взял какой-то разноцветный букетик. Посвистывает, доволен жизнью. Вошел в подземный паркинг. Вот это зря. Я, честно, вообще ни о чем не думал, пока он не зашел в этот паркинг. А там уж я ничего с собой не мог поделать — стал прикидывать. Когда он подошел к машине — опять открытый кабриолет — дурные воспоминания так и рванули во всю мочь. Я стоял за ним — рукой подать.
Он, должно быть, увидел меня в зеркале — подпрыгнул, как козел. Сразу другим человеком стал. Смотрел на меня как больной, струсил, я вижу, по полной. Собаки, когда чуют страх, бросаются и кусают. Вот и я такой. Понял, что он ссыт, только мне захотелось еще минутку поиграться: он же меня не узнал с такой рожей.
Я сказал ему: «Что, открытые машины до сих пор любишь?» И тут он сразу врубился! Охренеть, какой кайф!
Бритва у меня была уже в левой руке — сама туда прыгнула, как живая. Раз — и все. Так быстро, даже обидно. Бритва взяла и разрезала глотку. Я отскочил в сторону. Кровь из этого мужика хлестала, как лава из вулкана! Он все бросил, схватился за горло, бутылки все перебились. Через три минуты он лежал мертвый на своих покупках и на битом стекле. Кругом море крови. Только цветы не запачкались, а цветы же не виноваты, им не в подземном паркинге надо умирать! Им нужны солнце, воздух и вода.
Я всегда любил цветы, растения и всякую природу. Я их взял с собой. Кто идет с цветами, того полицаи никогда не загребут. Ни за что! Вы ж понимаете, у мужика с оружием букета цветов в руках не бывает. Тем более если он убил. А мне двадцать годков, только с моей рожей ни одна баба от меня цветов не примет, кроме моей матери. Вот я их ей и подарил. Перед входом под фонарем хорошо посмотрел, не осталось ли где пятнышка крови. Нигде ничего — вот и клево.
Мать взяла цветы молча. Я видел, она глазам своим не верила, не понимала — может, спит. Наверное, в тот день она точно решила, что я с ума сошел. Мы поужинали, поговорили о разных делах, так и вечер прошел. И все. А ночью со мной случился приступ — хоть сдохни, такого еще не было. Я правда думал, что помру.
Мать из дома вышла. Так хоть лучше. Какие-то люди ходили по комнате, а на меня не смотрели. Ворочали всю мебель, чтобы отобрать у меня бритву. Я на них ору, хочу их поймать, а они ходят себе, будто меня и нет. А тот говнюк из кабриолета держится обеими руками за горло и кровь между пальцами брызжет. И так всю ночь — никак этот кошмар не кончался, и я ничего не мог сделать с теми людьми.
Утром мать вернулась, от нее перегаром несло. Она видела, что со мной, но ничего не сказала. Я заперся в ванной, глянул чуть-чуть в зеркало и совсем отпал. Понять не мог, кто там, сам себя не узнавал. Какой-то незнакомый парень с тощим лицом, безумными глазами, а из носа идет кровь. Ни за что больше не хочу видеть себя в зеркале. Там меня больше и нет.
Через час я вышел из ванной, держался за стенки, чтоб не упасть. Сил никаких не было, я рухнул на кровать и тотчас уснул. Только в восемь вечера открыл глаза. На кухне мать сидела на своем месте и ужинала. Тишина свинцовая. Напротив стояла моя тарелка, а рядом газета, сложена пополам, и одна статья обведена красным, чтобы я не пропустил. А там про «ужасную гибель» агента по недвижимости, «варварски зарезанного» в городском подземном паркинге. Я все виду не подавал, прочел статью до конца. Лучше всего там были две последние строчки. Легавые с журналистами установили, что покойник делал в последние полчаса. Заходил, говорят, за покупками и купил цветы жене. Цветы не обнаружены. Я не знал, что сказать, только очень ржать хотелось.
А мать не орала, только буркнула: «Бери свое барахло и вали отсюда, и чтоб я тебя никогда больше не видела. Ни-ко-гда». Это она так отчеканила, чтобы я понял. Я усек, не боись.
Съел хлеба с сыром и пошел. На плечах рюкзак, весит два кило, а там вся моя жизнь за двадцать лет — на десять лет по кило, стало быть. Тетрадки мои лежали в другом месте, за них я не боялся. Мать курила одну за одной за домом, чтоб меня не видеть. Я пошел к ней в комнату, грохнул ногой со всех сил по платяному шкафу и взял все-таки тот конверт: большой, коричневый, толстый, перевязан веревочкой, а там письмо и еще всякая хрень. Когда совсем ушел, свистнул, не оборачиваясь, подозвать Тома — давно уже его не видел. Что этот пес хочет, то и делает!
Пяти минут не прошло — слышу, она орет так, как никогда не орала. Как безумная! Стало быть, увидела, что шкаф вскрыт. Я пошел скорей, было темно. Понимал, что она выскочила на крыльцо. Только она не знала, в какую я сторону пошел. Я и свалил. Смешней всего, что открыл я этот конверт только лет пять спустя. А то все было бы совсем по-другому.
Четверг, 14 августа 2003 года.
Полицейский внимательно перечитывал на экране компьютера только что принятое им заявление. Местами исправлял опечатки. Машинально посмотрел на стенные часы напротив: 9.20. Это был первый за сегодня клиент, как полицейские с сарказмом называют жалобщиков. А тот, кто сидел напротив, докучал ему с восьми утра — пришел в квартальный участок к открытию. Явился с сумкой на колесиках, чтобы покончить со своим делом и пойти за покупками.
— Так. Я перечитал ваше заявление. Это просто для учета — не официальная жалоба, но у нас будет какая-то бумага, чтобы войти в контакт с другим лицом и постараться уладить спор. Идет?
Старичок перед ответом прокашлялся. Он побаивался полицейского, хотя тот и разговаривал с ним вполне благожелательно.
— Да, хорошо. Но он же будет знать, что это я к вам приходил. Это мне чем-нибудь грозит?
— Знать он, конечно, будет, ведь мы с вашим заявлением к нему и придем. Но вам ничего не грозит. Это не кино, ничего не бойтесь, у нас каждый день по пятьдесят таких скандалов.
Полицейский еще раз прокрутил текст заявления на экране.
— Итак, излагаю суть. Один экземпляр останется у вас. Ваше имя Анри Лестрад, родились в 1923 году в Шатору, пенсионер, проживаете в доме № 17, Будапештская улица, Париж, Девятый округ. Вы ставите нас в известность, что от вашего соседа сверху, господина Оливье Эмери, исходит шум, являющийся причиной вашего пробуждения, что происходит ежедневно в 6.00 утра. Несколько дней назад вы встретили его на лестнице и обратились с просьбой прекратить или уменьшить шум. Он ответил согласием, однако изменений не произошло. Вы обращаетесь в органы полиции, чтобы мы урегулировали отношения между жильцами с целью прекращения неприятного для вас поведения. Все правильно?
— Совершенно верно. Так вы пойдете к нему? Когда? Вы мне скажете?
Анри Лестрад сидел с авторучкой в руке, но не хотел подписывать заявление, не задав еще несколько вопросов. Про себя он жалел, что пошел сюда. Но жена, доведенная до исступления соседским шумом, настояла. Каждый вечер она твердила: «Вот увидишь, опять нас разбудит этот эгоист. Он даже не думает о том, что внизу живут пожилые люди». А утро в шесть часов начиналось с непременного: «Вот видишь, я же говорила». Господин Лестрад больше не мог выбирать между женой и соседом и однажды утром решил наконец пойти в полицейский участок.