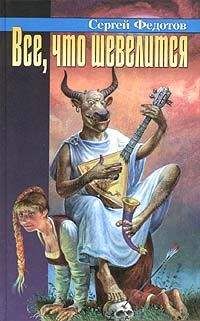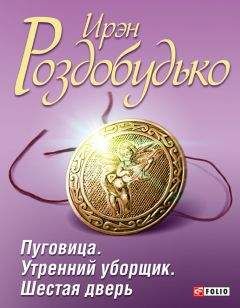Дурак, сказал он певцу. Перо не втыкают, не вонзают, не засовывают. Втыкают шабер. Или заточку. А пером пишут. Режут. Полосуют.
Кретин, сказал он себе. С чего ты взял, что это – о ней? О ней… О ней…
Он застонал. Проклятый рассказ сделал то, чего он боялся все эти годы. Все эти восемь лет. Взломал серую бетонную стену в мозгу. Открыл запретную зону. И освободил бродивших там чудовищ.
Он ошибся. Тогда – он ошибся. Не привык, не умел – но ошибся. И – проиграл. Он всегда держал ситуацию. Он привык делать все, что хотелось – впервые что-то делали с ним. Проиграл – и проиграл женщине. Или не женщине? Оно. Нечто – среднего рода. Женские слабости? Ха! Женские капризы? Ха! Холодный бесполый мозг, тоже привыкший лишь побеждать. Женщина? Черт ее знает, но поселился тот всеподавляющий разум марсианина в теле с признаками женского пола. Впрочем, любила она женщин и мужчин – одинаково. Любила? Чушь, кого может любить уэллсовский марсианин… Изучала – с холодным любопытством. Поведенческие реакции в постели. Материал для диссертации. Диссертации по Юнгу. Она преподавала философию… А чем еще может заняться застрявший на земле марсианин? Застрявший в чужом теле? Когда боевых треножников и лучей смерти не стало? Впрочем, к чему ей лучи… Изучала – и съедала… Всех – и его. Высасываемые шкурки чувствовали себя счастливыми – и он. Анестезия. Как у насекомых-кровососов. Заодно – раз уж подвернулась – высосали и его жену. Тогда – жену. Тоже с холодным любопытством. А он… Наверное, он любил. И – ненавидел. Одновременно. Бывает и так… Потом думал – еще повезло. Что просто изучили и отбросили. Страшна любовь марсиан… Потом – не думал ничего. Стало нечем. Мозг разлетелся, как зеркало от брошенного камня. Осколки что-то отражали – цельной картины не было. Те страшные месяцы разбились на отдельные сцены и разговоры – разлетевшиеся, как листки с черновиком пьесы… Жить не хотелось. Но он стал жить.
Он спасал себя сам. Радикальными методами. Чумной карантин в мозгу. Заградотряды на извилинах. Высокий серый забор – становящийся все выше. Чтобы не показался над ним кончик щупальца марсианина – и не заставил вспомнить все. Потому что не было ничего. Не было. Не было девяносто третьего года в двадцатом веке – и не показывайте старые календари.
Сокрушивший стену таран был на вид не грозен. Тринадцать листков, отпечатанных на матричном принтере…
Стрелка ползла к пяти утра. Три часа выпали, исчезли, испарились из хода времени. Он был жив. Боль в груди медленно отпускала. Серая стена вновь стояла несокрушимо. Но – вокруг гораздо большей площади. Внутрь попали новые люди и события, встречи и разговоры. Неважно. Он жив. Мозг вновь работает холодно и ясно. Он может спокойно читать этот рассказ – никаких ассоциаций. Ни с чем и ни с кем. И он прочитал. Еще раз. Медленно, не обращая внимания на литры крови и метры кишек. Ища зацепок. Находя и удивляясь. Рассказ никак его не касался. Абсолютно. Не имел никакого отношения. Мозг при первом прочтении цеплялся за крохотные мелочи и строил совершенно произвольные цепочки связей. Началось со второго абзаца. Первая пара – может значить что угодно. Любой вуз. Студентку. Преподавателя любого предмета. Достаточно было взбудораженному мозгу подставить философию – и пошло-поехало. Покатился в пропасть узнавания. И едва выкарабкался.
С опусом ясно. Остается автор.
Пора назвать вещи своими именами. Сбросить маски. Поднять забрало. Сказать вслух подсознательно известное сразу: парень что написал, то и сделал. Убил и расчленил. Неизвестную женщину. Совершенно неизвестную. Незнакомую. Все остальное – обостренное писательское воображение и банальное дежа вю. С ним такое бывало. Впервые шел по улице и дома казались смутно знакомыми. Начинали казаться только увиденные, что за углом – сказать не мог. И в разговоре порой фраза в момент произнесения всплывала из глубин памяти – как уже сказанная.
Зачем аспирант Рулькин принес это ему? Ну, тут сюжет затертый. Шаблонный. «Гонкуровская премия для убийцы» – там сказано все. Невозможность тащить такое в одиночку. Надежда хоть как-то и хоть с кем-то поделиться. Защитная реакция мозга, стремящегося выплеснуть это. Избавиться. А еще сознательная жажда славы (любой!) – и подсознательное желание быть пойманным. Именно поэтому серийные убийцы затевают телефонные игры с журналистами. А то и с полицией. Или с милицией.
Итак, сэр, ваши действия? С действиями сложнее. Обвинить человека в убийстве на основе рассказа? Пусть излишне натуралистичного, пусть смакующего слишком уж реальные кровавые подробности? А если все же – фантазия? Если просто – больной? Безобидный больной? Был ли вообще мальчик? В смысле – женщина? Была коротко стриженая голова, которая стояла на столе, на трех подложенных томиках Юнга? Тьфу, при чем тут Юнг, это ведь уже мое воображение поработало. Тоже больное. У всех писателей – в чем-то больное.
К черту ломать голову. Надо ехать к Граеву. Прямо с утра.
Граев. Павел Граев. Мрачный, молчаливый верзила с мертвой хваткой. Почти ровесник – на год старше. Почти друг. Почти – после пяти лет знакомства. Друзей у Граева мало. Очень мало. С друзьями он ходил под пули. Друзья, и никто другой, зовут Граева странным прозвищем: Танцор.
С бору по сосенке обставленный кабинет. На стене огромная карта города – виден каждый дом. Въевшийся навеки запах табака. Копоть со стен скоро будет отваливаться пластами смолы и никотина. Здесь много курят и спорят до хрипоты. Отсюда срываются по тревожному звонку. Здесь не держат ангелов или киношных суперменов. Сюда обыкновенные парни с усталыми лицами тащат кровь и боль со всего города. Чтобы их, и крови, и боли, стало меньше. Потому что здесь убойный отдел.
Граев молчит. Он никогда не спрашивает: зачем пришел. Пришел – значит надо. И очень редко что-то рассказывает сам. Информацию об интересных делах надо вытягивать клещами. Чаще отправляет с расспросами к своим ребятам.
Паша – персонаж нескольких его вещей, под другим именем, естественно. Одну прочитал. Удивлялся: этот робот, запрограммированный говорить телеграфным языком, хватать, стрелять, тащить и не пускать – я? Но не обижался. Он не видел ни одного человека, на которого бы Граев обиделся. Не было таких на свете. Не заживались. На свободе, по крайней мере.
Он: Паша, скажи… у вас не было нераскрытого дела с убийством и расчленением? С одной характерной деталью – брошенный на месте длинный плащ? Или пальто?
И, не дожидаясь ответа, понял – было.
Граев привстал, оперся о стол огромными ладонями. Угол рта дернулся. И, словно вколачивая костыль в шпалу: Откуда. Ты. Это. Знаешь.
Он не был готов ответить. Надеялся на лучшее. Вопреки всему – надеялся. Либо все выдумка. Либо – известное и законченное дело, как-то ускользнувшее от внимания. Ляпнул: прорабатываю сюжет. Как после грязного убийства уйти не светясь? Ход очевидный. Купить в секонд-хенде длинное пальтишко, потом сбросить – и уйти в чистом…
Не поверил. Граев никогда не верит в совпадения. Уставился совиными глазами. Процедил, избегая подробностей: кто-то этот сюжет уже проработал. Несколько раз. Не в книжках. На практике. Серия, и тянется давно. Первый случай – несколько лет назад. Потом еще два, с большими перерывами. А с этого августа – как прорвало, один за одним. И каждый раз утром, на рассвете.
Вот так. Несколько лет назад один ныне начинающий писатель учился в ЛГУ. Потом, надо думать, уехал на родину. Но Питер иногда навещал. А недавно поступил в аспирантуру и поселился в общежитии. Ага. Но как сумел написать такое? И так?
И что теперь делать? Рассказать все? Подождать до вечера?
Граев не дал взвесить до конца все за и против: информацию про плащи в прессу не сливали. Очень мало кто об этом знает. Ты уверен, что про этот сюжетный ход тебе кто-то где-то не сказал? Не обронил какой намек случайно? Не проговорился? Отложилось – а потом всплыло, как свое…
Он ничего не ответил. Он не знал, что ответить.
Граев давил: тип крайне опасный. И если сообразит, что проговорился… Знаешь, что будет? Знаешь, что с тобой будет?! Смотри!
Вскочил, выхватил из сейфа папку, швырнул на стол фотографию. На ней была голова. Стоящая на столе отделенная от тела голова. Он поднимал руку целую вечность, и еще вечность подвигал к себе фотографию. И заранее знал, чье лицо сейчас глянет мертвыми глазами на него.
Не она. Это была не она. Он очень надеялся, что колыхнувшаяся внутри радость не отразится на лице, ускользнет от Граева. Не она! Совершенно чужое лицо. Но женское. Вгляделся внимательней.
Реденькие довольно длинные волосы, цвет на черно-белом фото не понять, но не брюнетка. И не темная шатенка. Высокий узкий лоб; непропорционально расширяющееся книзу лицо дисгармонирует с маленьким ртом (измятым, искаженным, окровавленным) и узким подбородком; длинноватый, отнюдь не классической формы нос слишком приближается к верхней губе – и при жизни была не красавица. А уж теперь…