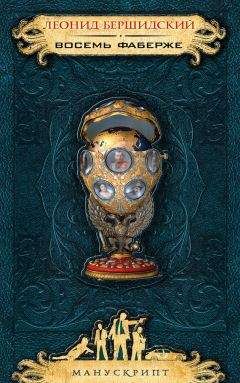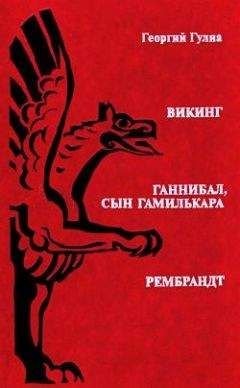Улыбка на лице Салли становится шире. Это ободряет Ивана: похоже, он недалек от истины.
– Федяев не был уверен, что картины подлинные, – он знал, что химическая экспертиза не доказывает подлинности, что краски копииста могут соответствовать по составу тем, которые использовал, скажем, Рембрандт, а холст – вообще может быть старинным. Так что он подкупил реставратора в Музее Гарднер, чтобы тот признал картины подлинными в любом случае. И чтобы сообщил ему, если на самом деле это не так. Винс Ди Стефано, главный реставратор музея, так и сделал. И Федяев озаботился поиском подлинных картин. Он перевернул все вверх дном в доме, где Софья показывала мне картины, и, наверное, в доме Суэйна на Маргарет-стрит. Но ничего не нашел, поэтому попытался получить информацию сначала у Суэйна, Лори и Софьи, а потом у нас. Тут явились вы со своим пистолетом. Как вам удалось избавиться от охраны?
– Подождите, Иван. Вы еще не все мне рассказали. Как в этой истории возникли вы и Том?
– Я думал, эту часть вы уже знаете. Ведь это ваш человек вывозил нас с Софьей из Америки через Кубу?
Салливан молчит, лицо его непроницаемо.
– Федяев объяснил мне, что ему нужен посредник, который сумел бы внушить доверие продавцу, то есть Софье, и соблюсти интересы покупателя, то есть самого Федяева. Он проделал большую работу, копался в прошлом Софьи и в моем. Похоже, этот человек знает Виталия Когана, владельца банка, в котором я работаю. Когда он нашел меня там, видимо, решил, что это судьба. Вы ведь тоже знаете Когана, верно? Иначе я не понимаю, как он смог устроить нам эту эвакуацию из Бостона. А Том… Ну, когда я летел в Нью-Йорк, я думал, что мне понадобится некто хорошо знающий историю ограбления Гарднеровского музея. И один мой друг в Нью-Йорке, галерист, посоветовал мне Тома.
– Я всю сознательную жизнь ищу эти картины, – в первый раз с начала рассказа встревает Молинари.
– Том очень помог мне. Например, помог вернуться сюда после незаконного выезда.
– Зачем вы вообще вернулись, Иван?
На этот логичный в общем-то вопрос у Ивана нет простого ответа. Софья открывает глаза: ей тоже интересно послушать, зачем он «вышел за молоком».
– Когда я был в Бостоне в прошлый раз, Ди Стефано торопил нас, чтобы мы поскорее вернули полотна в Музей Гарднер. Мне показалось, что реставратор не должен так спешить и что у него какой-то свой интерес. А потом я увидел в Москве, на выставке, одну работу Савина. Это трудно объяснить, но, глядя на нее, я вдруг понял, что это он написал картины, которые мы передали музею. Мне показалось, что меня и всех – Тома, музей, тех, кто придет смотреть на картины, – обвели вокруг пальца.
– Савин сказал тогда, на пленэре, что ты не видишь, – тихо говорит Софья по-русски. – Знал бы он, как ошибается…
– Я его слышал, Соня. И поверил ему.
– Говорите по-английски, – раздраженно одергивает их Салли. – Я еще не решил, как мы поступим дальше. Вы сказали, что у нас общие интересы. В чем они?
– Я думаю, что подлинные картины у вас или у кого-то из ваших доверенных людей. Мы с Томом должны увидеть эти полотна. Он давно их ищет, а я… В общем, для меня тоже это теперь важно. Но мы не выдадим вас, потому что сегодня нас отказались слушать в музее. Директор Бартлетт выгнала нас из кабинета. Для нее вопрос решен: она и попечительский совет приняли картины Суэйна. Они наверняка уже выпустили заявление, что похищенные шедевры вернулись. Я не могу говорить за Тома, но для меня эта история закончится, когда я увижу картины.
– Я и сам не смог бы сказать лучше, – подтверждает Молинари. – Мне важно знать правду, и я хочу хоть раз увидеть «Бурю». Но для Бартлетт ничего делать не хочу. Я ведь тоже мог вас убить, Салливан, когда вы меня освободили. Но сейчас, получается, я на вашей стороне, а не на стороне музея. Если надо выбирать между гангстерами и «пингвинами», выбор проще простого. Меня тут только одно беспокоит: вот люди придут в музей и увидят подделки. И мы ничего не сделаем, чтобы обман раскрылся?
– Тебе нужно задать этот вопрос Савину, – неожиданно вступает в разговор Софья. – Почему-то мне кажется, что он тебя убедит. Он всегда рассказывает историю про Джошуа Белла, есть такой великий скрипач. Одна газета уговорила его на эксперимент: встать в метро со своим Страдивари и играть то же, за что ему обычно хлопают в залах. За сорок пять минут он собрал тридцать два доллара – в три раза меньше, чем стоит билет на его концерт.
– Презрение к обычным людям меня не убеждает, – резко отвечает Молинари. – Я сам из этих.
– Все же поговори с Савиным. У него есть целая теория на этот счет.
– А чего еще вы ожидали от музея? – иронизирует Салли. – Директору надо собирать пожертвования, а много ли она их соберет под историю про то, как ей всучили копии? Завтра я покажу вам подлинники. Это, скорее всего, снимет вашу проблему, Том.
– Почему?
– Увидите завтра.
Он принял решение, и теперь мы все заодно, понимает Штарк.
Салли снова трет виски, но, как и прежде, это не приносит ему облегчения. Он закрывает глаза: может быть, так удастся приманить сон.
Бостон, 2012
Доставив Салливана в «Тадж» и договорившись подобрать его там же в девять утра, бывшие гости Федяева остаются впятером.
– Я позвоню в Гринвич, в полицию, скажу про Федяева, – завидев телефонную будку, Молинари идет выполнять гражданский долг.
– Это из-за Федяева мы снова встретились, – тихо говорит Софья Ивану. – А ты договариваешься с его убийцей.
Савин, руки в карманах засаленной куртки, откликается:
– Один мерзавец убил другого, что это меняет для нас?
– Федяев заплатил тебе сполна, Петя.
– Я работал не за деньги, ты это знаешь.
– А зачем вы работали, Савин? – спрашивает Иван.
– Я много раз говорил ей, Штарк, но она не желала слушать.
– Что ты говорил? Что хочешь доказать себе и всем, что ты не хуже Рембрандта?
Тут Лори заставляет Штарка открыть рот от удивления: она на равных вступает в русскую склоку.
– Нет, Соня, он говорил не это, ты ведь его слышала.
Акцент у нее есть, но, пожалуй, даже приятный. Выучила русский, чтобы общаться с любимым на более удобном для него языке!
Савин на этот раз обращается к Штарку.
– Раз ты допер, что в музее – копии, может, поймешь и то, что я сейчас скажу. Мне шестьдесят лет, и я уже лет двадцать знаю, что я не гениальный живописец, а ремесленник. Когда-то у меня были иллюзии, но… Зато в ремесле мне мало равных. Может, и вообще нет. Вот все эти двадцать два года я воссоздавал Рембрандта и Вермеера. Я взял химические пробы с подлинников, изучил состав красок, грунтовок. Я прочитал с десяток монографий – Грена, ван дер Ветеринга, Уайта и Керби, черт знает кого еще. И еще все старинные трактаты по технике живописи, которые смог найти. Я малевал свои картинки на продажу, а все, что зарабатывал, тратил на материалы, на эти старинные холсты. Представляешь себе, что такое найти никуда не годную картину нужного размера, для которой холст поставил тот же ткач, у которого покупал Рембрандт? Подумай, как бы ты это сделал. Может, лучше поймешь, почему Софья ушла от меня.
– Это я как-нибудь сама объясню, – зло бросает Софья. – Ты играл в свои игрушки, это не имело никакого отношения ни к живописи, ни вообще к жизни. Мертвечина! И ты мертвяк.
– Это дело его жизни, Соня, – вступается за Савина Лори. – Я считаю, он совершил подвиг. И теперь люди увидят эти картины, и никто не узнает, что Питер написал их. Он даже не может подписать свою работу и знал, что никогда не сможет. И все равно делал!
– Подвиг был бы – восстановить подлинники, – парирует Софья. – А это просто шулерство. Ты обычный жулик, Петя.
– Какой мне теперь смысл с тобой спорить? – пожимает плечами Савин. – В музее люди увидят то, что помнят, или то, о чем им долго лишь рассказывали. А сколько на самом деле этим полотнам лет, четыреста пятьдесят или пять, какая разница? Даже музейный реставратор не сумел отличить эти копии от оригиналов. Хотя у него наверняка была вся информация об этих холстах.
– Федяев подкупил его, – поправляет бывшего преподавателя Штарк. – Он любил играть наверняка.
– Это ничего не меняет, – качает головой копиист. – Ди Стефано не стал бы рисковать, если бы кто-то мог обнаружить подделку. Эти картины выдержат даже компьютерный анализ: я изучил форму мазков Рембрандта и Вермеера, я научился писать, как они. Немногие могут про себя это сказать, Штарк. Впрочем, ты вряд ли понимаешь, о чем я: ты довольно легко бросил живопись.
– Вы на многое открыли мне глаза на том пленэре, – без злости отвечает Штарк. – В том числе на мое нежелание соревноваться. Я не вижу смысла в писькомерках. Каждому в конечном счете достанется то, что ему лучше подходит. Каждый возьмет свое.
– Что тобой движет? Зачем ты приехал? – Савину, кажется, действительно интересно. Иван для него – непонятная зверушка.