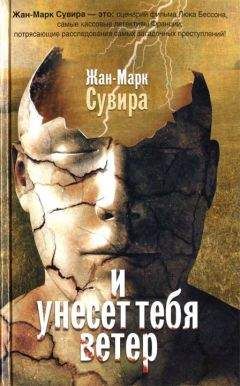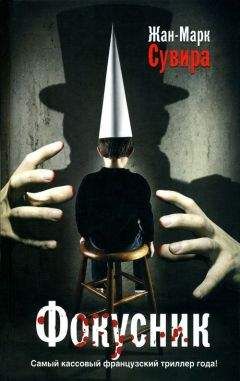В блокноте она записала крупными буквами: «ОЧЕВИДНО И БЕССПОРНО, ЭТО ТОТ ЖЕ „ИКС“, ЧТО ЗВОНИЛ В ФИП, НО ИНТОНАЦИИ И ЛЕКСИКА СОВЕРШЕННО ДРУГИЕ». И затем: «Человек спокоен, говорит рассудительно, читает наизусть или по бумажке готовый текст, следит за интонациями, владеет собой». Подумав еще, она добавила к этим записям: «Без эмоций, без торопливости, внешние звуки приглушены, вероятно, тряпкой».
Она набрала на клавиатуре несколько команд, позволяющих удалять фильтры, приглушающие голос. Звуки стали гораздо яснее. В лаборатории послышались объявления вокзального громкоговорителя. Она отметила: «Говорящий произносит слова отчетливо и раздельно, следит за выражением голоса (повторяю!), произносит свои фразы нейтральным тоном». Закончив комментарий, она вывела на экран кривые обоих анализов: совпадали кривые произношения слов, ритма, промежутков между словами, иногда и тона. Она с интересом наблюдала, как голос неизвестного изменялся в зависимости от разговора: тут он знал, что его записывают, и контролировал себя, там был возбужден и в болезненном состоянии.
В два часа Элизабет Марешаль решила быстренько пообедать в кафетерии, а затем приступить ко второй экспертизе для криминальной полиции.
Минут через двадцать Элизабет вернулась в лабораторию и занялась диктофонной записью убийства. Прежде всего она сделала страховую копию на свой компьютер, и анализ стала проводить на нем. С первых же слов, произнесенных убийцей, она записала: «Это тот же человек, который звонил пожарным! Здесь он не старается изменить голос или хотя бы интонацию, как в некоторых из звонков на ФИП, — тут он хозяин положения». Она писала не задумываясь, перевести свои соображения на протокольный язык успеется.
Элизабет Марешаль сознавала, как ей повезло: такая необычная экспертиза случается раз в сто лет. Такие требуют от звукоинженера всей его изобретательности. Разговор убийцы с жертвой потряс ее.
Чтобы не засосало водоворотом эмоций, все возрастающих и возрастающих, чем ближе подходило время к смерти Лоры Димитровой, Элизабет сосредоточилась на технической стороне анализа. Она возбужденно писала: «Сильный стресс убийцы — теперь он боится, говорит на верхних нотах, не хочет дать ей сказать что-нибудь».
Элизабет Марешаль отметила место, где женщина кричит: «Мне все равно, кто вы такой!» Она быстро писала: «Видимо, догадывается, кто на нее напал, но надеется не быть убитой за то, что скажет это. Кричит — вероятно, вспомнила, что ее магнитофон включается голосом. Французский язык для Лоры Димитровой не родной, акцент очень слабый. Восточная Европа — очевидно, Болгария».
Несколько раз Элизабет прослушала фразу: «Когда я открыла дверь, я же не думала…» И вопль мужчины: «МОЛЧАТЬ!!!» Она возбужденно писала: «На несколько секунд Лора Димитрова пришла в себя, возможно, боится смерти — хочет, не возбуждая подозрений убийцы, оставить полезную информацию на диктофоне. Мужчина заглушил голос Димитровой, чтобы не слышать окончания фразы».
Элизабет Марешаль слушала дальше. «Какого… ты встаешь?»
Ужас в голосе женщины достиг апогея. Услышав стук, когда Лора Димитрова повалилась после града ударов, Элизабет Марешаль инстинктивно закрыла глаза.
Она всегда находилась в лаборатории одна, и обычно ей так было удобно, но сегодня ей хотелось разделить с кем-нибудь моральную тяжесть от прослушивания этой записи.
На несколько минут она прервала работу. Нужно отдышаться. Отойти от «аудиозаписи подлинного убийства», как она ее окрестила потом.
Элизабет не спеша съела яблоко, глядя на тихий парк, раскинувшийся за окном, проводила взглядом пару белок, стремительно карабкающихся на дерево.
Тряхнув головой и отбросив назад белокурые волосы, она опять надела наушники и стала опасливо вслушиваться в продолжение — то место, где убийца говорит сам с собой так тихо, что ни слова расслышать нельзя.
Элизабет Марешаль в ярости черкнула у себя в блокноте: «Текст неразличим, звукорежиссура не помогает». Потом она с закрытыми глазами единым духом прослушала удушение, агонию и изнасилование Лоры Димитровой.
Элизабет медленно сняла наушники, положила их на стол и потерла глаза. Ей никак не удавалось выразить в словах ужас того, что она услыхала впервые в своей практике.
Потом Элизабет запустила несколько программ, чтобы разделить голоса. Минут через сорок пять услышала наконец, что сказала Димитрова, прослушала эти слова несколько раз, записала в блокнот и несколько раз обвела черным карандашом. На полях приписала: «Теперь понятно, почему он так трусит и не хочет, чтобы их слышали».
Она собиралась записать еще кое-какие наблюдения, но вздрогнула от резкого звонка внутреннего телефона. Коллега из другого отдела напоминал, что она приглашена отметить уход на пенсию одного из столпов научно-технической полиции и ее ждут. Элизабет посмотрела на часы: 19.30. Она совсем забыла про вечеринку, но сейчас ей было даже приятно уйти из лаборатории, немедленно. Несколько минут хода до буфетной были для нее словно шлюз после глубоководного погружения.
Вечеринка затянулась сверх ожидаемого, а Элизабет Марешаль не спешила заканчивать столь тревожную экспертизу. Она ушла вместе с последними гостями, но отклонила предложение нескольких весельчаков, желающих этим вечером погулять как можно дольше и лучше, поехать в Лион распить еще бутылочку.
Было уже за полночь, когда она шла через парк обратно в здание, где находилась ее лаборатория. Все окна были темные, и только у себя она нарочно оставила свет. Неоновые лампы словно парили белым пятном на темном фоне. Она пошла по коридору, освещенному только указателями выходов. Чем дальше шла, тем с большей опаской думала о том, что ей придется еще раз услышать, пока закончит анализ. Она отперла лабораторию, вошла, хлопнув дверью, и дважды повернула ключ. Замок сухо щелкнул. Элизабет сообразила, что делает, и пожала плечами: ведь она находится в строго охраняемой полицией зоне.
«Так, — подумала Элизабет, — повлияла на меня запись подлинного убийства».
Она машинально собралась включить компьютер и выбрать запись из меню, но тут заметила, что, заторопившись на вечеринку, не выключила свои приборы. Компьютер закончил работу и вывел на экран заставку. Резким движением мышки она убрала ее и увидела на экране графики — результат анализа. Несколько минут потребовалось Элизабет, чтобы свести в уме разрозненные пазлы в единую картину. Не сводя глаз с монитора, она медленно поднялась с кресла, взяла телефонную трубку и заказала билет на скоростной поезд, уходящий из Лиона в семь утра и прибывающий на Лионский вокзал Парижа в 8.57. Двадцать минут на метро — у Мистраля она будет около половины десятого. Часы на стене лаборатории показывали: есть ровно пять часов доработать то, что она расшифровала. Если ее гипотеза подтвердится — Элизабет Марешаль почти раскрыла тройное убийство.
Тот же день.
Оливье Эмери трясло, потому что один из его сослуживцев все время огрызался. Он думал об испытаниях двух последних дней. Пытался вспомнить все, что произошло на выходных, и понять, как вести себя дальше. Появился новый факт, с которым надо было считаться: соседская жалоба ввела в игру квартальный полицейский участок.
Бессонница, или почти бессонница, страхи, кошмары преследовали его те двое суток, что он не заходил в свою квартирку. Эмери слонялся из бара в бар, глотал таблетки напропалую. Приступ случился в ночь на понедельник, когда он, пьяный, заснул в своей машине, припаркованной в тихом местечке Седьмого округа за военной школой. Эмери чуть не умер от боли и едва успел заткнуть нос бумажками, чтобы не пошла кровь.
Когда приступ пошел на спад, он чуть ли не с пешеходной скоростью поехал в сторону Будапештской улицы. Подниматься по лестнице к своей квартирке было пыткой, а когда он проходил мимо соседской двери, ему хотелось убить их. Дома он полчаса неподвижно простоял под душем, а потом рухнул на постель.
Наутро, наглотавшись лекарств, он занялся гимнастикой, а через скакалку прыгал дольше и сильнее, чем обычно. Спустился по лестнице с сумкой на плече. В ней — весь отрезок жизни, что прошел в квартирке на Будапештской улице. Игра не кончалась — начиналась новая партия.
Но когда Оливье Эмери сидел, как сейчас, в глубокой дыре, он терял надежду и чувствовал, что это финиш. Звонить на ФИП не имело смысла — там его не поддержат, а от накопившегося стресса, боялся он, опять вопьется сверло в глаз и в висок.
Он считал, что ему понадобится дней пять-шесть, чтобы отдохнуть и выиграть время. Командир отряда был фанфарон и крикун, но в душе добряк.
— Шеф, я совсем без сил. Несколько дней живу уже на одних таблетках. Мне надо дней пять прийти в себя.