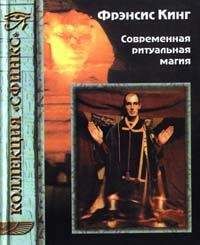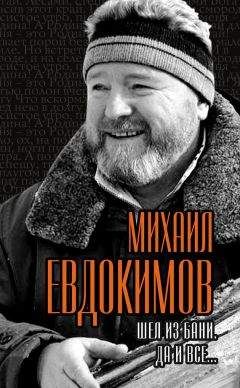«Гэбье… Большое гэбье… Очень большое гэбье… Да, — подумал Шалагин, внутренне передергиваясь, — это уже тот уровень, куда если сунешься без санкции — башку оторвет мигом…»
— …А теперь представь, как бывший гэбист из ДБ «Финстроя» приходит к действующему гэбисту из числа клиентов «Финстроя». Два настоящих офицера и патриота между собой всегда договорятся — особенно если речь о нескольких миллионах свободно конвертируемого живого кэша. Широкий круг народу посвящать в дело совершенно не обязательно. Тем более что шум не нужен никому, учитывая, какой банк интересный, какие у него интересные отношения с разнообразными генералами и какой интересный чудила сам Амаров. У ребят есть записи базаров Амарова с Балдаевым, прямо указывающие на Пенязя, и наверняка есть комп на этого членчика правления — тоже указывающий на Пенязя. Что тут не может не прийти в голову господам офицерам?
— Взять бабки, Амарова грохнуть, а «старших пацанов» ознакомить с записями.
— Угу. Ведь при таком раскладе сидеть тихо будут все. И Амаров это понимал…
«А ты-то откуда знаешь про „господ офицеров“?» — гадал Шалагин.
— …Но он поступил еще хитрее, — продолжал Дрямов.
— Слил до кучи и их, — хмыкнул важняк, — офицеров…
Но Дрямов даже не улыбнулся:
— Угу. Тоже хитрым путем, через третьи руки…
— Кому?
— Другим офицерам. Тебе нужны имена, звания и должности? Ты хоть примерно представляешь, сколько народу с этим Райзманом повязано было? Сколько серьезных ребят проводило через него бабло? А сколько других серьезных людей воевало с теми за бизнес? Поверь, там хватало заинтересованных в сливах…
«И с кем-то из них у тебя обмен инфой…» — констатировал Шалагин.
— А на фига Амарову столько сливов? Че-то я уже в них путаюсь…
— А вот именно для того. Чтобы они — те, кому сливают — запутались. Чтобы они все думали друг на друга.
— Э-э… Ну а кто его все-таки завалил-то? Амарова?
— Пенязь, — уверенно заявил Дрямов.
— Почему? — поразился Шалагин.
— Да не знаю я, кто его завалил! — разозлился москвач. — Мало ли кто! Там до хера, я говорю, всякого народу, которому кого угодно списать, как пернуть…
— А почему Пенязь?
Дрямов помялся, прокривил недовольно рот:
— Такая, короче, херня… — сказал как бы нехотя. — У нас тут сейчас у фэйсов с ментами серьезное качалово. Бизнеса делят. У Пенязя этого, ты в курсе, крутые друзья в МВД, у них там всякие варки были. Короче, фэйсы придумали Пенязя закрыть. Причем по-быстрому. Материал на него собрать не проблема, но нужно что-то вкусное прям щас.
— Балда… — понимающе кивнул Шалагин. Ну вот… Наконец-то ясно, зачем был весь этот цирк. Хитрожопый Денисыч им с ментами дал добро выбить из придурка Балдаева чистуху по Амарову (то есть намекнул; никаких прямых указаний, конечно: если что — сплошная самодеятельность подчиненных, превысивших служебные полномочия) — а сам тем временем как хозяин товара с московскими, значит, общался: есть теплый лох, дает показания, если интересно, можем договориться… Только, видать, договорились не сразу — потому Денисыч и велел Шалагину на всякий случай Балду «отпустить»: чтоб, значит, москвичи его к себе не этапировали под каким-нибудь предлогом. А теперь, вот, выходит, сошлись в цене…
— В общем, нужны его показания, что это Пенязь все организовал.
— Сто шестьдесят третью? — мрачно уточнил Шалагин. — Сто пятую?
— Да, что только можно. Плюс нарушения экологии. Ты ж понимаешь, это все не важно…
«Конечно, — раздраженно подумал важняк, — вы тут в Маскве своей, значит, с фэйсами варитесь, а я там у себя мудохайся для вас со всякими лохами, рисуй им одно признание, другое, третье… Шестеру нашли…»
— Денисыч в курсе? — для порядка спросил важняк.
Дрямов кивнул: а то как же.
— Он у меня под подпиской сейчас…
— Все, — махнул Дрямов рукой, — на растяжку его давай, в пресс-хату, хоть на паяльник его сажай. Но чтоб был красивый материал на Пенязя…
Упыхтыша звали, кажется, Андреем, но Кирилл про себя нарек его так за снулый вид, вялость манер и мыльную взвесь в красноватых глазках: хотя при нем парень не расслаблялся ничем противозаконнее касимовской, да и ту побухивал тайком от подопечного — видимо, Шалагиным даже она санкционирована не была. Крупный, белесый, бреющий остатки волос на крепкой литой башке для маскировки обширной лысины, все три с половиной дня, проведенных вдвоем с Кириллом на этой даче, он не делал ничего в самом буквальном смысле: если и вставал с койки, то главным образом для походов в сортир. Даже курил лежа, просыпая пепел на линолеум, индифферентно глядя в пыльный неширокий телеэкран, показывающий бесконечные дивидишные фильмы. На голливудских боевиках Кирилл к нему иногда присоединялся, но когда начинались олигофренические российские комедии, выдавливающие на неподвижное лицо Упыхтыша тихую задумчивую улыбку, убредал, хромая и покашливая, на кухню жарить им обоим картошку (кроме которой никакой жратвы в доме он не нашел). Иногда из большой комнаты сыпались через равные промежутки порции коллективного гогота — Упыхтыш смотрел записи юмористических программ; потом начинались, постепенно набирая децибелы, тявканье и подвывания порноактрис.
Не зная о нем ничего, перебросившись с ним за все время пятью с половиной одно- и двухсложными словами, Кирилл определил его сразу и безошибочно — этот девяностокилограммовый кусок протоплазмы, этот давно победивший на одной седьмой суши мужской типаж ЧОПера низового звена, штатного низкооплачиваемого паразита, предмета обстановки, оснащения офисных зданий, муниципальных учреждений, учебных заведений, магазинов, фитнесс-центров, обменников, залов игровых автоматов, рынков, баз, складов и автостоянок, виртуоза игрушек в мобильнике, провинциала в большом городе, где убогий оклад околачивателя груш все равно вдвое превышает то, что имеют мужики, горбатясь на пилораме в его родном поселке (это еще в том хорошем и нечастом случае, если в поселке работает хоть какая-нибудь пилорама); он в очередной, бессчетный раз был перед Кириллом — со своей ленью, тупостью, наглостью, жвачностью, самодовольством, с «Ударом» в кармане, с невостребованным (и не собирался!) дипломом ПТУ по специальности «монтажник санитарно-технических систем и оборудования», с двумя годами тоскливого армейского бреда, к которым он все равно без конца возвращается по пьяни как к самым ярким впечатлениям в жизни и основанию мужицкой самоидентификации.
Впрочем, нельзя сказать, что потребности у Упыхтыша отсутствовали вовсе — он, например, ежедневно заказывал проституток, всякий раз долго, угрюмо и бестолково объясняя операторше, куда и как доставить заказ, а потом еще повторяя то же самое водиле. Кирилла на время визита дамы Упыхтыш запирал, как и на ночь, в его комнатке — показывать постояльца посторонним следователь, видимо, не велел. Комнатка, крошечная, со скошенным потолком, была на втором этаже — побег через занавешенное диким виноградом окошко хромой, с трудом шевелящий руками, замиравший иногда на ровном месте от приступов головокружения Кирилл даже не обдумывал.
Упыхтышеву функцию в данном случае трудно было назвать охраной — во всяком случае, на объект этой охраны он, похоже, вообще не обращал внимания; но Кирилл, разумеется, догадывался, что любая его попытка ухромать в дверь и в калитку будет с некоторым запозданием, с ленцой, под механический досадливый мат, но беспощадно и показательно пресечена. Он, как ни странно, почти не задавался вопросом, зачем его тут держат, что и кому от него нужно. Все, что с ним происходило даже не с момента погрузки в наручниках в неновую иномарку десять дней назад, а по крайне мере с задержания в городе Глазго на улице Cathkin Drive (если вообще не всю сколь-нибудь взрослую жизнь…), подтверждало: Кирилл сам по себе, Кирилл как таковой, во всех своих проявлениях и намерениях по определению виноват и подлежит пресечению. Если и стоило задаваться вопросом, то совсем элементарным, детским: почему существование Кирилла — при всех своих недостатках и нелепостях (возможно, бесчисленных, возможно, фатальных) никогда никому не делавшего ничего плохого, в жизни не нарушившего ни одного закона серьезней запрета на распитие в общественном месте и любую, без исключения, работу, за которую он брался, искренне и последовательно старавшегося выполнять хорошо, — почему именно его существование всегда и всеми подвергалось сомнению, почему право на это существование Кирилла без конца заставляли доказывать и сплошь и рядом не признавали? Попросту: почему именно ему тридцать четыре года упорно не дают жить?! Впрочем, на самом деле и это не было вопросом — поскольку ответ на него Кирилл давно, во всяком случае с прошлого сентября, знал («Ты — вырожденец. Именно потому, что ждешь от жизни соответствия правилам…»). Нет, это была обида, это было отчаяние беспомощности — перед той самой ЖИЗНЬЮ. ЖИЗНЬ валялась на диване в соседней комнате, игнорируя его, нимало не интересуясь им, но при этом безоговорочно пресекая его стремление делать то, что представляется естественным и разумным, — ленивая, неряшливая, скрыто-агрессивная, сексуально озабоченная, безмозглая, не знающая и не признающая никаких правил. И он, как ни крути, был перед нею совершенно бессилен.