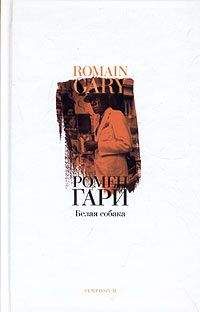Мне так нравится.
Мать уже думала о другом, о бифштексе, который шипел на сковородке; о том, чтобы в нужный момент ткнуть в него вилкой и перевернуть; посолить; подождать, пока кровь вытечет и испарится на раскаленном металле, ибо она была уверена, что Витторио любит хорошо прожаренное мясо, и ему так и не удалось ее переубедить. Так же Витторио не мог добиться, чтобы она оставалась на диване в гостиной и продолжала смотреть телевизор, когда он возвращался в десять, в одиннадцать часов вечера: бесполезно было говорить, что в тридцать лет он как-нибудь сумеет поджарить себе бифштекс, – нет, она все равно вставала, бросала фильм на середине и шла на кухню, а если сын настаивал, твердила, что они так редко видятся, что его никогда нет дома, и вот наконец выпал случай немного поговорить. Говорила в основном она, а Витторио едва отвечал.
Вот, хорошо прожарился, по твоему вкусу. Не склоняйся к тарелке, нос обожжешь. Салат, помидоры? Надо поесть зелени, неизвестно, чем ты там питаешься в дороге. Не слишком ли много ты работаешь? Мне кажется, ты устал, или мне только кажется? Ну так чего тебе – салата, помидоров?
Помидоров.
Он думал о другом. О носе, носе старика, который он заметил в этот день. Нос стоял у Витторио перед глазами, пока он резал мясо, белое, волокнистое, слишком сильно зажаренное, вперив невидящий взгляд в клетчатую скатерть. Сломанный нос, нависающий над губой, плоский посередине, чуть клонящийся влево. Нос человека, пережившего много; много претерпевшего, потрудившегося на своем веку.
Мать придвинулась поближе, положила руки на край стола.
Слышишь? Это – Праздник единства, но вся улица жаловалась, и теперь торжества проходят в сторонке, почти ничего не слышно. Правда, почти ничего?
Правда. Почти ничего.
Аннализа жаловалась, говорила, что все время тебе звонит, но твой сотовый отключен. По-моему, ты совсем забросил девушку – уж не морочишь ли ты ей голову? Когда вы увидитесь? Завтра вечером?
Да. Мы увидимся завтра вечером.
Эту неделю ты дома? Если дома, давай сходим навестим папу. Сколько времени ты уже не видел папу, месяц, наверное?
Да. Я эту неделю дома.
Может, завтра утром и сходим? Не слишком рано, тебе надо отоспаться. Пойдем завтра утром, хорошо?
Да.
Ты доел? Можно убрать тарелку?
Да.
Съешь еще парочку помидоров, это тебе полезно.
Да.
Пойду досмотрю фильм. Оставь все, как есть, я завтра приберу.
Да.
Витторио подождал, пока мать выйдет из кухни, положил на тарелку три ломтика помидора, один съел, другой подцепил на вилку и встал из-за стола.
Идешь в свою комнатушку? – крикнула мать из гостиной. Долго не засиживайся, ты устал.
Витторио не ответил. Он прошел через темный коридор и стал подниматься по ступенькам. При голубоватом, мигающем мерцании телевизора можно было сосчитать деревянные ступеньки, не дотрагиваясь до них носком ботинка, – седьмая, как всегда, громко скрипит. В коридоре верхнего этажа тоже было темно, и свет от телевизора не попадал туда, но Витторио слишком хорошо там ориентировался, чтобы пропустить дверь в свою комнату. Комнатушку, как ее называла мать.
Оказавшись внутри и закрыв за собой дверь, он зажег лампу под абажуром, стоявшую на письменном столе у стены, отошел на середину комнаты и остановился там, пока глаза привыкали к новой полутьме, понемногу различая распятие над изголовьем кровати, керамическую фигурку ангела-хранителя, плакат с освещенными силуэтами нью-йоркских небоскребов и еще один, с разноцветными парусами серфинга. Подумал, что мать права: праздник Единства проходит тихо, криков и музыки почти не слышно, хотя действо разворачивается в другом конце улицы, на стадионе, который находится в конце жилого квартала, застроенного маленькими особнячками на одну семью, такими же, в каком живут они с матерью. Потом открыл один из двух ящиков письменного стола и вытащил пластмассовую модель самолета, «Мессершмит-262» времен Второй мировой войны, марка «Эр-фикс», масштаб 1:150. Поставил ее на полированную столешницу: фюзеляж открыт, кабина еще не закреплена, в нее нужно поместить пилота длинными щипцами для бровей, которые он положил рядом с моделью, вместе с моментальным клеем, ручными тисками и напильником, чтобы зачищать наплывы пластмассы, остающиеся после сварки. Потом сдвинул все это на край стола, нашел в кармане ключ и открыл другой ящик. Извлек оттуда деревянную шкатулку, раскрыл ее под настольной лампой и стал придирчиво вглядываться в нос.
Нос был не такой, как ему хотелось. Не такой, какой был нужен, пока не такой. Витторио вытащил его из шкатулки, снял эластичную пленку с массивного гипсового слепка и пристроил резиновый нос к своему лицу, расправляя пленку на скулах и придерживая переносицу, чтобы случайно не уронить. Нос пришелся впору. Даже трубочки, вставленные в резину, ибо он еще не провертел до конца дырочки для ноздрей, воткнулись прямо в его ноздри, как будто эта толстая беловатая шишка выросла сама собою у него на лице. Однако нос был не такой, как надо; пока не такой.
Витторио взял гипсовый слепок, вложил его в оболочку из латекса и крепко прижал. Отломил кусочек пластилина от блока, лежавшего в шкатулке, размял его, повертел так и сяк, прилепил к переносице, расплющил и стал моделировать большим пальцем. Ногтем отковырнул от блока еще один завиток пластилина, крохотную, почти невидимую запятую, и пристроил у переносицы слева, как раз там, где заканчивалось утолщение.
Облокотился о столешницу, приподнял нос большим и указательным пальцами и долго, прищурившись, созерцал его под настольной лампой. Нос достиг совершенства. Новые детали гармонировали с грубыми линиями слепка, и только контраст между темно-серым пластилином и матово-белым латексом обнаруживал, что это – новые, более поздние накладки к фальшивому накладному носу. Теперь оставалось снова покрыть его гипсом, чтобы получить однородную форму, потом через специальные отверстия заполнить латексом до нужной густоты, до нужной плотности. И вот вам массивный стариковский нос, раздувшийся, деформированный, искореженный жизнью.
За пределами комнаты, за дверью, седьмая ступенька на лестнице, как всегда, громко скрипнула. Витторио сунул стариковский нос в деревянную шкатулку и потянул к себе модель самолета. Мать уже давно перестала входить без стука в комнату Витторио, в «комнатушку», но он считал, что следует постоянно, каждый раз придерживаться рутинных правил защиты – это помогает сохранять бдительность на должном уровне.
Мать, из коридора: я иду спать. Не засиживайся допоздна, ты устал.
Витторио подождал, пока мать хлопнет дверью, потом снял латексную пленку со слепка, нанес тонкий слой мастики на нос старика: совсем немного, просто чтобы нос удержался на лице, – и нацепил его. Чего-то еще не хватало.
И вот, со свистом дыша через трубочки, выходящие из резиновых ноздрей, он вынул из шкафа длинный металлический крюк и оттянул вниз крышку люка, ведущего в мансарду, вытаскивая заодно и стремянку. Может быть, из-за слишком низкого потолка или из-за узких окошек, расположенных у самого пола, он без особой охоты поднимался в мансарду, разве для того, чтобы выполнить какую-нибудь рискованную или компрометирующую работу, например вставить в глушитель «брюггер-томе» абсорбирующий слой войлочных прокладок, взятых из воздухоочистительного фильтра подвесного мотора. Глушитель лежал на полке, покрытый каким-то тряпьем, рядом с «зиг-зауэром» 9-го калибра, к которому его нужно было приспособить. Но теперь – другое: открыть одно из окошек, сесть верхом на подоконник и через маленький бинокль «сваровски» наблюдать за Праздником единства, тихо насвистывая.
С этой стороны дома музыка слышна лучше. Она, конечно, доносилась издалека – ее отражали стены, расстояние скрадывало высокие ноты, оставляя лишь назойливый грохот басов, – но звучала достаточно отчетливо, чтобы можно было разобрать мелодию и слова. Группа «Субсоника», хит «Все мои ошибки».
Он искал старика. Подходящего старика. Настроил окуляры, подкрутил болты с насечкой, пока не образовался правильный, четкий круг, в который попадали один за другим люди, передвигавшиеся по стадиону. Витторио быстро вышел из центра, где давали концерт, потому что там толпилась одна молодежь, проскочил через пивную и остановился у буфета, который, похоже, еще работал. Далекая, совершенно не связанная с тем, что попадало в черный круг бинокля, музыка казалась еще более отвлеченной, чужеродной – так бывает, когда смотришь телевизор, убрав звук, но оставив включенным радио.
Ты меня защищаешь и делаешь больно;
Ты меня убиваешь и снова
Берешь меня живым,
Ты – все мои ошибки.
Витторио искал между столиками, за стойкой, у мангалов, но не видел никого, кто бы мог пригодиться. Потом вдруг нашел. Старик поднимался из-за столика рядом со стойкой. В одной руке он сжимал поднос, полный пластиковой посуды, а другой снимал, скорее, срывал фартук с бедер. В уголке рта, зажатая между зубами, виднелась щепочка, и Витторио мысленно отметил эту подробность, на всякий случай, на другой раз, потому что сейчас это ни к чему. Наверное, старик, добровольно вызвавшийся помогать в буфете, собирался поесть после смены – но не это интересовало Витторио, хотя он и направил окуляры на тарелки, что громоздились на подносе, скорее из любопытства и по привычке, чем по необходимости. Тортеллини с мясом, сарделька с кукурузной кашей, пол-литра красного и английский суп. Ни воды, ни кофе. Витторио ждал, пока незнакомец двинется с места, поскольку его интересовала именно походка. Скорость и ритм движений, как учили на последнем курсе школы актерского мастерства. И вот наконец он увидел. Быстрые, чеканные шаги, скорее, прыжки, которые завершались прежде, чем успевали до конца развернуться, словно встречая какую-то преграду. Как он двигает свободной рукой, согнув ее в локте, словно отпихивая кого-то невидимого; как держит поднос, прямо, твердо, но окостенелыми, распухшими пальцами, которые не сжимали край, а просто поддерживали; даже как он оборачивается к стойке, и голова на негнущейся шее движется медленно, на одной высоте, как башня танка. Старый, проржавевший танк, старый рабочий, или старый ремесленник, или старый крестьянин – он еще полон энергии, но тело уже подчиняется только рывками, ноги заплетаются, идти трудно.