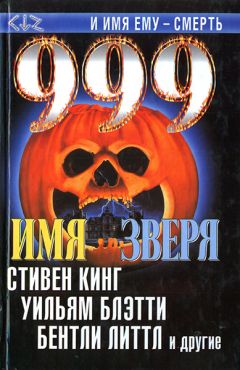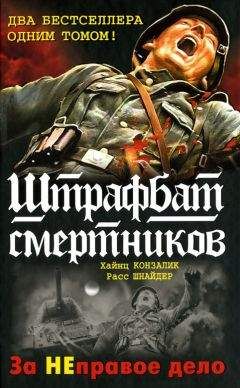Красивое лицо мамы было как маска. Фарфорово-косметическая маска. Маска, которая могла внезапно разбиться, как стеклянная, если кровь в ее сосудах начинала биться слишком бешено.
Поэтому Розалинда избегала ее и незаметно исчезала, чтобы спрятаться в каком-нибудь укромном уголке Крест-Хилла.
Думая: ни за что, ни за что, ни за что она не вырастет в такую красивую и рассерженную женщину.
Но особенно пугал нас папа, так изменившийся. Прежде судья Родрик Мейтсон был безупречно элегантен, не позволяя видеть себя иначе, как в только что выглаженном костюме и свежей рубашке, причесанным волосок к волоску, а теперь он часто ходил в мятой одежде, свирепо запускал пальцы в волосы, брился нарочно (решили мы) так, чтобы кожа краснела от раздражения; он был папа — все еще, и его лицо было папино, тысячи раз сфотографированное, и все же словно что-то более старое, грубое, жесткое старалось пробиться наружу. Карие живые глаза, обычно теплые, ласковые, потускнели, остекленели, губы двигались, будто он спорил сам с собой.
Папа был страдальцем, невинным. Тем, кого предали, затравили и продолжали преследовать его враги и «алчные, ненасытные, недобросовестные средства массовой информации» — вот почему нам не позволяли читать газеты и смотреть телевизор. Папа был рассерженным человеком, а иногда (вынуждены мы были признать), и опасным человеком. Как у мамы, его настроения постоянно менялись: то угнетен, то в ярости, то полон оптимизма, то погружен в апатию, то скорбит о своей семье, то скорбит о себе и о своей рухнувшей карьере, то исполнен юношеской энергии, то озлобленный стареющий человек.
За столом своим ораторским голосом он мог провозгласить, будто слушали его не только мы: «Милая жена, милые дети! Потерпите ради меня! Очень скоро наша жизнь станет такой, какая принадлежит нам по праву. Я спасу имя Мейтсонов, спасу нас всех. Вот моя клятва. Я скреплю ее… своей кровью».
Красный от вина, проказливо щуря глаза, папа хватал вилку и, прежде чем мама успевала ему помешать, поражал себя в тыльную сторону ладони, будто пронзая какую-то безволосую тварь, которая неведомо как подобралась к его тарелке.
Мы вздрагивали, но не вскрикивали, не плакали. От нас требовался мягкий шепот: «Да, да, папа». Ведь слезы в такой момент обычно коробили папу, означая, что, мы, дети, быстро шепча «да, да, папа», в действительности не верили нашим собственным словам.
* * *
— Он словно бы все-таки умер, верно? В тюрьме? Его глаза…
Это сказал Стивен тягучим голосом, совсем другим, чем его нормальный, после одной из странных упоенных вспышек за обеденным столом; Стивен, чья жизнь до ареста папы состояла из футбола, бейсбола, баскетбола, спортивных видеоигр и бурных стремительно меняющихся дружб одноклассника с одноклассницами в его школе; Стивен, красивый, как Родрик Мейтсон в его возрасте, с отцовским широким лицом и чеканными скулами.
Грэм пожал плечами и ушел.
Розалинда сказала Стивену что-то быстрое и обидное, назвала его безмозглой жопой и ушла.
И пролежала без сна, тоскуя, почти всю ночь. Вжимаясь мокрым лицом в подушку. Думая: «Могут глаза умереть? Глаза человека — умереть? А все остальное в нем продолжало бы жить?» На протяжении нескончаемой постанывающей ветром ночи — такой же, как все ночи в этом жутком месте, которое она ненавидела: такое одинокое, такое далекое от ее подруг и той жизни Розалинды Мейтсон, которую она любила; засыпала и тут же просыпалась посмотреть, не пригнулся ли он над ее кроватью, не сверкают ли на нее из темноты остекленевшие в кровавых прожилках глаза нашего отца.
«Господи, помоги ему доказать, что он ни в чем не виновен. Восстановить свое доброе имя. Помоги ему вернуть все, что он потерял. Сделай нас снова счастливыми, сделай нас снова самими собой, верни нас в наш настоящий дом и сделай фамилию Мейтсон снова достойной гордости».
Солнечное ветреное утро! Одно из грязных окон утренней столовой разбежалось паутиной трещин, на террасе валялись сучья, обломки веток, листья. И шуршали, будто живые раненые существа.
— Где Грэм? — спрашивали мы друг друга.
— Где Грэм? — спросила мама; сердитые, встревоженные глаза.
Грэм не пришел завтракать. Он проснулся раньше нас, и оделся, и ушел. Так с грустной завистью сказал малыш Нийл.
Однако Грэм был где-то в доме. Упрямый в своем сопротивлении, когда мы звали: «Грэ-эм! Где ты?»
После нашего переезда в Крест-Хилл, когда его прежняя жизнь осталась позади, Грэм погрузился в яростную меланхолию. Его дорогое компьютерное оборудование не могло функционировать в этом разваливающемся доме — проводка никуда не годилась. В большой спальне наших родителей в дальнем конце второго этажа, куда нам, детям, доступ был запрещен, в одну из ламп как будто была вкручена шестидесятиваттная лампочка; а в кабинете папы на третьем этаже был телефон, факс и одна-две лампочки низкого напряжения; напряжение часто падало, лампочки мигали, и папа старался пользоваться ими экономно. (Тем не менее папа часто работал всю ночь напролет. Он занимался подготовкой подробных юридических документов, опровергающих выдвинутые против него обвинения, чтобы со временем послать их окружному прокурору; и он часто разговаривал по телефону с единственным адвокатом, которого сохранил.) Но компьютер Грэма, новейшей модели, включенный в одну из примитивных розеток Крест-Хилла, демонстрировал пятнисто-серый экран без намека на четкость. Большинство его программ и видеоигр не включались. Кибер-пространство Крест-Хилла напоминало бездну, вакуум, пустоту атома, который, говорят, состоит почти из ничего; медленно движущиеся частицы вроде черных точек в уголке вашего глаза. Грэм думал, что такой феномен, как «киберпространство», существует везде. Он вопреки маминому предупреждению возобновил связь по Е-мейлу с некоторыми своими друзьями, но ответы, которые он получал, были странными, спутанными. Как-то Стивен вошел в комнату Грэма, где тот сидел, сгорбившись над клавиатурой своего компьютера, быстро печатая команды, которые вновь и вновь получали ответ будто в жестоко-комич-ном кошмаре «ОШИБКА! ПОСЫЛАЮЩИЙ НЕ ОБНАРУЖЕН» на мерцающем, гаснущем экране. Стивена потрясло горе на лице брата.
— Эй! Почему бы тебе на время не бросить это? Мы же можем заняться чем-нибудь другим. Поехать на велосипедах… в город…
Но Грэм не слышал. Он еще больше ссутулил худые острые плечи над клавиатурой, стремительно выстукивая другой сложный набор команд. Светящиеся буквы и значки на экране медленно уплывали вверх, словно направленные туда с неизмеримого расстояния в пространстве и времени. В бледном неясном свете пасмурного июньского утра мальчишеская кожа Грэма отливала нездоровой зеленоватостью, будто потускневший металл; глаза блестели горьким недоумением. Он с отвращением сказал Стивену:
— Посмотри.
Стивен посмотрел на то, что выдавала Е-мейл Грэма, но в каждом ответе было что-то не так, будто неуклюжий перевод с какого-то иностранного языка или код:
graememat + @ poorshit. ///
howzit 2b ded!
— Они думают, я умер, — сказал Грэм, давясь всхлипами. — Ребята говорят обо мне, будто я покойник.
— Просто ошибки. Когда у нас будет лучше с электричеством… — поспешно сказал Стивен.
Грэм сердито стукнул по клавише, его Е-мейл исчез.
— Может, я покойник. Может, мы все умерли и похоронены в Крест-Хилле.
Стивен, вздрогнув, попятился. В такие моменты настроения брата его пугали. Ему не хотелось думать: «Он знает куда больше меня, он куда сообразительней меня». И пошел сообщить остальным:
— Грэм совсем сдвинулся на своем компьютерном дерьме. По-моему, надо бы его отключить.
Затем настало это утро, когда они хватились Грэма, звали его и внизу дома и вверху, звали его из окон, из дверей террасы, выходящей на рощицу потрепанных ветрами вязов и заросшую бурьяном сквозь гравий подъездную дорогу, называвшуюся Аллеей Акаций (хотя почти все акации захирели и погибли). Мама — серебристо-пепельные волосы падают ей на лицо, девичий лоб наморщен от раздражения и тревоги — приложила ладони рупором ко рту кричала:
— Грэ-эм, Грэм! Где ты прячешься? Иди сюда, слышишь? Немедленно!
Будто это была игра в прятки, которой она могла сразу положить конец. Но, как и папа, который почти все время бодрствования проводил на третьем этаже, мама неохотно выходила из дома. Приложив ладонь козырьком к глазам, она прищурилась на службы: старый каретный сарай, и конюшню, и амбары с прогнившими от дождей, провалившимися крышами, — и в сторону мутного Овального пруда у подножия холма по ту сторону Аллеи Акаций; однако то ли робость, то ли просто страх мешали ей искать Грэма во всех этих самых подходящих местах.
После десяти дней в Крест-Хилле, во время которых она не видела никого, кроме мужа и детей, если не считать прислугу, нанятую в Контракере, мама все еще носила дорогую модную городскую одежду; платья, юбки и свитера, не джинсы (возможно, их у нее вообще не было?), но шелковые брючки с рубашками в тон, непрактичные итальянские босоножки на очень высоких каблуках. Каждое утро, даже самые гнетущие утра, она мужественно превращала овальное сердечко своего лица в тугую красивую маску; хотя кожа горла отливала землистой бледностью, начиная выдавать ее возраст. Она носила свои обручальное и венчальное кольца, кольцо с изумрудом на правой руке, на тонком запястье вспыхивали драгоценные камешки браслета наручных часов. Прерывистым, почти кокетливым голосом мама пожаловалась: